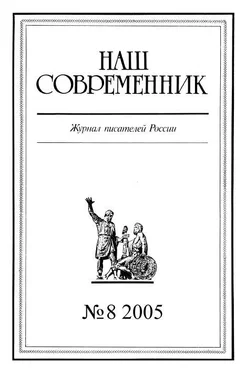К тому же как-то не верилось в «народного Пушкина»… К началу XX века российская интеллигенция, напророчив себе встречу с народной «стихией», проявляла то экзальтированное народолюбие, то скрытую или откровенную враждебность, то готовность к неминуемой гибели, то показное смирение и страх перед грядущими пришельцами. «Ждали хама, глупца непотребного, / В спинжаке, с кулаками в арбуз…» — в этих словах Клюева есть немалая доля истины. Ждали нечто таинственное, могучее, но… заведомо «корявое»…
«Корявый и хитренький мужичонка копается в муравейнике, ищет корешка, которым, верно, будет лечить коровье вымя или свою больную бабу», — писал Блок в 1906 году в статье «Девушка розовой калитки и муравьиный царь» (всего за год до начала переписки с Клюевым!). Но как «красиво просит» мужичонка небо и землю о заветном корешке! И « наверное найдет», потому что в мужичонке — «сила нездешняя», да и сам «муравьиный царь — тайный его сообщник» ( Блок А. Собр. соч. в 8-ми т. М, 1962, т. 5, с. 91; курсив автора).
Как выразится спустя семнадцать лет Андрей Белый в очерке «Арбат», «мужик есть явление очень странное даже: лаборатория, претворяющая ароматы навоза в цветы; (…); откровенно воняет и тем, и другим: и — навозом, и розою…» (журн. «Россия», 1924, № 1, с. 59; курсив автора).
В смиренный диалог с воображаемым провозвестником новой силы вступает К. Бальмонт — самый знаменитый и прославленный в начале века поэт, называвший всех других поэтов своими предтечами:
Исполин безмерной пашни,
Как тебя я назову?
— Что ты, бледный?
Что, вчерашний?
Ты во сне иль наяву?
Исполин безмерной нивы,
Отчего надменный ты?
— Не надменный, не спесивый,
Только любящий цветы.
Исполин безмерной риги,
Цвет и колос люб и мне.
— Полно, тень прочтённой книги,
Отойди-ка к стороне.
Бальмонт К. Жар-птица: Свирель славянина. М., 1907, с. 118.
Именно Бальмонт станет вскоре для Клюева символом «обессилевшей волны» русской культуры, и молодой поэт действительно вступит с ним в открытый диалог… [4].
Итак, «явление» Клюева как будто предсказано, и к встрече с ним по-своему готовятся. Всё это впоследствии так или иначе повлияет и на создание образа поэта в представлениях современников, и на характер поведения самого Клюева.
Но что должен был почувствовать тот «вытегорский мужик», которого поэты Серебряного века словно заранее мифологизировали, когда он наконец появился в их среде? Искушение легкой победы ценою притворства или потребность оставаться самим собой? Неприятие навязываемой роли или стремление сыграть ее с наибольшей для себя выгодой? Самодовольство или страх? Нет, с самого начала обнаружилось другое: потребность в понимании и желание быть услышанным; непритворное достоинство человека, которому есть что сказать.
«Простите мою дерзость, — писал Клюев А. Блоку в 1907 году, — но мне кажется, что если бы у нашего брата было время для рождения образов, то они не уступали бы Вашим. (…)
Вы — господа, чуждаетесь нас, но знайте, что много нас, неутолённых сердцем, и что темны мы только, если на нас смотреть с высоты, когда всё, что внизу, кажется однородной массой…».
Это письмо Блок процитирует в статье «Литературные итоги 1907 года», и «олонецкий крестьянин» прочно войдет в его жизнь, станет в ней «большим событием»… «То, что сближает обоих, — пишет К. М. Азадовский, — гораздо сильнее, чем изначальное взаимоотчуждение. „Два берега“ русской жизни, которые в начале XX века воспринимались как непреложная реальность, оказываются в данном случае весьма размытыми» (в кн.: Клюев Н. Письма к Александру Блоку: 1907–1915. М.: Прогресс-Плеяда, 2003. С. 44).
* * *
Казалось бы, эти «берега» стали еще более «размытыми» после выхода в свет первых клюевских книг. Не просто «безукоризненные стихи», но и обещание «поистине большого эпоса» увидел в них Н. Гумилёв. Редким образцом подлинно религиозной поэзии назвал стихотворения Клюева В. Брюсов, написавший предисловие к сборнику «Сосен перезвон». Литературный дебют Клюева можно было назвать триумфальным…
Но вот что напишет Клюев Есенину несколько лет спустя, в 1915 году: «У меня накопилось около двухсот газетных и журнальных вырезок о моём творчестве, которые в свое время послужат документами — вещественным доказательством того барско-интеллигентского, напыщенного и презрительного взгляда на чистое слово и еще того, что Салтычихин и аракчеевский дух до сих пор не вывелся даже среди лучших из так называемого русского общества. Я помню, как жена Городецкого в одном собрании, где на все лады хвалили меня, выждав затишье в разговоре, вздохнула, закатила глаза и потом изрекла: „Да, хорошо быть крестьянином“. Подумай, товарищ, не заключается ли в этой фразе всё, что мы с тобой должны возненавидеть и чем обижаться кровно! Видите ли — не важен дух твой, бессмертное в тебе, а интересно лишь то, что ты, холуй и хам-смердяков, заговорил членораздельно».
Читать дальше