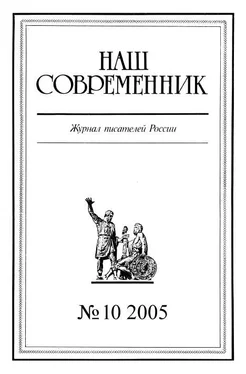За тучи тянется моя рука,
Бурею шумит песнь.
……………………………….
Ей, россияне!
Ловцы вселенной,
Неводом зари зачерпнувшие небо, —
Трубите в трубы.
Но, как оказалось впоследствии, для достижения счастья необязательно переделывать мир, меняя местами землю и небо. Счастье или несчастье — внутреннее состояние человека, а потому в своих последующих стихах поэт дальше и дальше углубляется в настроения души, выявляя их разные оттенки. То в нем просыпается былая молодецкая удаль, то охватывает романтическая мечта, то посещает необъяснимая грусть.
Дождик мокрыми метлами чистит
Ивняковый помет по углам.
Плюйся, ветер, охапками листьев, —
Я такой же, как ты, хулиган.
……………………………………………
Несказанное, синее, нежное…
Тих мой край после бурь, после гроз,
И душа моя — поле безбрежное —
Дышит запахом меда и роз.
……………………………………………..
Этой грусти теперь не рассыпать
Звонким смехом далеких лет.
Отцвела моя белая липа,
Отзвенел соловьиный рассвет.
Минуя своим творчеством весь алфавит от «А» (описание земли и прочтение ее красот) до «Я» (осознание своей внутренней сущности и ее ценности), Есенин приходит к мысли о смерти: «Ни одной тайны не узнаешь без послания в смерть» 1. И здесь, обращаясь к позднему творчеству поэта, соприкасаешься с изменением «цвета» его образов. Если стихи раннего периода были насыщены яркими красками — синей, желтой, красной, зеленой («красная вода», «зеленое вымя», «лес зеленый», «желтые долы», «красная рюшка», «парень синеглазый», «малиновая ширь», «горит в нем бирюза» и т. д.), то в поздних стихах колорит все более и более высветляется («белая лунность», «серый камень», «седое небо», «голубая звезда», «бель песка» и др.).
На смену весенне-летнему яркому пейзажу приходит пейзаж зимний, ослепительно-белый. Остановимся на одном стихотворении, относящемся к последним годам жизни Сергея Есенина, и попытаемся осмыслить его с точки зрения пейзажной композиции.
Снежная равнина, белая луна,
Саваном покрыта наша сторона.
И березы в белом плачут по лесам.
Кто погиб здесь? Умер? Уж не я ли сам?
(1925 г.)
Каждая строчка четверостишия представляет собой изобразительную картину с чередованием в его ритмах горизонтальных и вертикальных линий:
«снежная равнина» — образ горизонтальной панорамы;
«белая луна» — композиция с доминирующей вертикалью, ассоциирующейся с льющимся сверху лунным светом;
«саваном покрыта» — образ покрова, набрасывания, связывается с вертикальным движением сверху вниз;
«наша сторона» — вызывает в памяти отчий пейзаж со сменой степей и лесов, разворачивающихся по горизонтали;
«и березы в белом плачут» — череда вертикалей;
«по лесам» — опять протяженная горизонталь;
«кто погиб здесь?» — горизонталь интонационная и образная, связанная с лежащим человеческим телом, гробом;
слово «умер» по своему звучанию может напомнить звук падающего предмета и, видимо, несет образ вертикального движения.
Любопытно, что все слова трех первых строк и первого предложения четвертой строки начинаются с согласных букв (исключение составляет буква «И» третьей строки, но она играет скорее роль связующего, а не смыслового элемента). Только со слова «умер» появляются гласные «У» и «Я». Разбирая древнерусский алфавит, Есенин писал о них:
«Человек по последнему знаку отправился искать себя. Он захотел найти свое место в пространстве и обозначил это пространство фигурой буквы q. За этим знаком пространства, за горой его северного полюса, идет рисунок буквы У, которая есть не что иное, как человек, шагающий по небесному своду. Он идет навстречу идущему от фигуры буквы Я(закон движения — круг).
Волнообразная линия в букве qозначает место, где оба идущих должны встретиться. Человек, идущий по небесному своду, попадает головой в голову человеку, идущему по земле. Это есть знак того, что опрокинутость земли сольется в браке с опрокинутостью неба. Пространство будет побеждено…» 2.
Сергей Есенин определял знак фиты ( q) как образ пространства, в котором человек «земной» (тело) и человек «небесный» (дух) встречаются, обретая свой законченный смысл и первозданную цельность.
На законах скрещивания вертикалей и горизонталей построены все формы бытия, образуя гармонию мироздания. Христианские мистики твердо верили, что «идущий по небесной тверди» в соединении с земным телом образует знак креста и образ распятого Спасителя, «на котором висела… доска с надписью: Иисус Назаретянин Царь Иудейский» 3. Только через Голгофу, согласно вероучению, Христос преодолел земное пространство, вознесясь к небесному Отцу.
Читать дальше