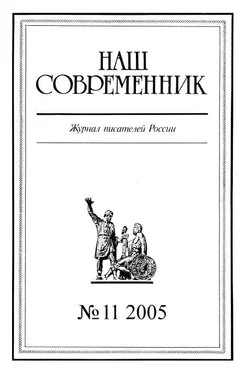— А верст десять будет, — радостно успокоил он нас. — Вам нужно дойти до Каменки Буниной. А до нее еще две Каменки будут: Каменка Богданова и Каменка Чичерина. И все — тропочкой. Лугами, лощинами. Так и дойдете до Иван Алексеевича.
Тут мне и припомнились «расстояния» Васи-шофера. Тропинка серой тесьмой бежала вначале через поле созревающей пшеницы, потом выскочила на сухие луга, белея на склонах выбитым известняковым налетом. В лугах было тихо и жарко. В подсохшей траве сипели кузнечики. Редкие белые облака застыли в небе. Под ними, еле видимая снизу, плавала широкими кругами пара ястребов, перекликаясь друг с другом тонким горловым свистом. Тропка под ногами с каждым пройденным километром все утяжеляла и утяжеляла шаги. Хотелось пить. Впереди группа женщин в низко надвинутых на лица платках ворошила граблями позднее сено.
— Здравствуйте.
Они издалека поздоровались с нами и оперлись на грабли, ожидая нашего подхода. Мы поздоровались.
— Вы откуда ж такие будете? — не спеша поинтересовались они.
— Из Москвы.
— Издалека… А тут к кому?
Лица под платками загорелые, рассматривают нас с долгой, необидной усмешкой.
— К Бунину. Ивану Алексеевичу.
— К Ивану Алексеевичу? А он что же, сродственник ваш будет?
— Не совсем.
— У нас вон Марфушка оттуда, из Бунина. Марфушк, ты Ивана Алексеевича знаешь?
— Это писателя, что ль? Не, не знаю. Я сама из Чичерина. В Бунино сестра отдана.
Мы помолчали. Разговор вроде бы исчерпан, пора уходить. Но мы стоим, чего-то ждем. Женщинам, видно, еще хотелось бы поговорить о чем-нибудь. Все равно о чем…
— Чевой-то ты не бреисси? — спрашивает меня одна из них. Кожа на лице от загара дубленая, глаза высветленные, молодые.
— Да так… — я не знал, что ответить.
— Эт-то он красоту на себе наводить, — подсказала другая.
— Какая ж красота? Колючий, как татарник…
— Будь я на месте твоей жены, я б с тобой, с чертом лохматым, ни в жисть не осталась.
— Ничего вы не соображаете, бабы, — озорно усмехается та, с дубленым лицом. — Он энтой бородой, — кивок в сторону жены, — ее шшекотит.
До Каменки Буниной добрались, когда солнце явственно стало клониться на вечер. Деревенские ребятишки напоили нас вкусной колодезной водой прямо из бадьи и, узнав, по какому мы делу, тут же разнесли весть по деревне. Не спеша стали подходить взрослые.
— Это кто тут у нас к Ивану Алексеевичу?
Две старухи не спеша направлялись к колодцу на бугре, где мы отдыхали после утомительного пути.
— Кто тут к нему припожаловал?
Говорившая была высокая, полная старуха с темным, морщинистым, как печеное яблоко, лицом.
— Из Ельца, что ли, будете?
Узнав, что из Москвы, удивилась, сказав удовлетворенно:
— Ну вот, и из самой Москвы стали приезжать к Ивану Алексеевичу!
Я уже перестал удивляться тому, что все здешние люди говорили о Бунине, как об очень близком, родном человеке. Они гордились не тем, что являются бунинскими земляками, а что Бунин приходится им земляком. Они как бы брали его под свой патронаж, под свою защиту, интуитивно радуясь, что он наконец через много лет возвращается на свою Родину, и прежде всего к ним, на елецкую землю. И эта всенародная, в буквальном смысле, защита великого писателя была в своей простоте и строгой определенности трогательна до слез.
— Я его хорошо помню. — Высокая старуха держала руки на животе, поддерживая ими тяжелые, низкие груди под свободной темной кофтой.
— Я тоже его помню, — вставила слово другая старушка, поменьше ростом.
— Как ты могла его помнить? — спокойным басом возразила высокая. — Ты ишшо махонькая была.
— Сколько вам лет? — поинтересовался я у высокой.
— Восемьдесят один, — спокойно ответила она.
— А мне семьдесят три, — вставила низенькая.
— Ну я и говорю — молодая.
— А вы его, Ивана Алексеевича, хорошо помните?
— Как же не помнить? Я уже девчонкой в понятии была. Вяжем раз так-то поденщину, он к нам и подошел. Прямой, строгий. Мы, девки, боялись с ним встречаться. Смотрит не мигая, того и гляди всю тебя «спишет». Аж мурашки по телу. У него и кличка у деревенских была: «Клык».
— А где же господский дом стоял?
— А вон, на бугорочке. Аккурат над самым прудом. Да одна только слава была, что господский дом. Не лучше крестьянского: деревянный, под соломой. До самой войны стоял. Немцы его сожгли, когда отступали. Пришли, значит, ихние партизаны…
— Каратели, — поправила низенькая.
— Я и говорю: каратели… Двое их было. Поплескали карасином-бензином, спичку под пелену… А много ему надо? Пыхнул свечкой. Наши в революцию жгли, немцы — в войну. И чего он им мешал? Стоял бы да стоял…
Читать дальше