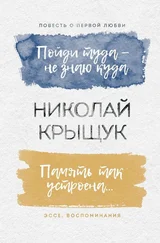Большинство картин были ему известны, некоторые он видел впервые. Собранные вместе, они производили впечатление музыкальной волны, которую художник выхватил из мирового, непрерывно созидающего, океана. Сам он при этом продолжал видеть весь океан, и это чувствовалось. Сравнение с мировым океаном не возникло, однако, в сознании Михаила Созонтовича. Нескромность он давно преодолел, даже в мыслях. Но от картин Мастера исходило почти физическое ощущение ветра, так что Михаил Созонтович, несмотря на стойкий жар ламп, почувствовал, что его знобит. И сердце начало болеть еще сильнее, не реагируя на валидол.
Конечно, он переволновался сегодня – такой день. И теперь, в самом начале операции, ему уже втайне хотелось, чтобы все поскорей закончилось, чтобы можно было уже просто вспоминать, щадя себя и слушателей свободным перескальзыванием с предмета на предмет. Все же, что он видел на картинах, происходило до жути, до неправдоподобия в настоящем времени, и сам он каким-то неосторожным образом оказался в этом настоящем, был застигнут врасплох и по причине внутренней слабости не мог увернуться, оказать сопротивление, превратившись во влекомую куда-то песчинку. Это было жестоко.
Всем нутром ощущал он враждебность взявшей его в оборот стихии, но вместо того, чтобы отвернуться или уйти – оставался на работе, будто приклеенный взглядом. «Летом – всем птахам амнистия!» – прорезался вдруг в нем голос соседа Евдокимова, заходившего к нему чуть не каждый вечер проигрывать деньги в шахматы. «О чем это он? Вот шут-то!» – успел подумать Михаил Созонтович, продолжая нестись неизвестно куда.
Однако непроизвольные выбросы воспоминаний продолжались, и по большей части нелепые: поцелуй в заиндевевшую собачью морду, отупляющая игра в «пьяницу» спрятанными на чердаке картами, побелевшие в траве подлещики, рассуждения какого-то старика о линеонарном мегаполисе и фраза немолодой блондинки, за которой он бог знает почему ухаживал в привокзальном ресторанчике: «Сациви? Я сухое не пью».
Пытаясь как-то упорядочить эти мучившие его своей бессмысленностью обрывки воспоминаний, Михаил Созонтович попробовал вытащить из них какую-нибудь красную нить, но из этого ровным счетом ничего не вышло. Он не мог не только припомнить что-нибудь далекое, но даже и то, что было сегодня. Пил он утром чай или кофе, менял лезвие в бритве или нет. Огромный спасительный материк – вся его жизнь – был совсем рядом, но не было на нем ни одного кустика, ни единого уступа, которые бы помогли ему спастись.
Все эти красивые картинки, однако, мы, несомненно, придумали за Михаила Созонтовича. Сам он ничего такого не представлял. Какое-то усилие, правда, совершалось в нем, но это было, скорее всего, усилие вдоха. Голова кружилась, теснило грудь и капельки пота охладили лоб. Налицо были все признаки состояния, предшествующего сердечному приступу, каковой вскоре с ним и случится. Однако все же не сейчас. Для этого требовалось еще подбавить жару, и невидимая рука с ковшиком была уже услужливо занесена, ибо…
В следующее мгновение взгляд Михаила Созонтовича встретился с агатовым глазом зависнувшей в воздухе косули. Перед ним была та самая картина, которую они писали с Мастером. Теперь он вспомнил, что в каталоге под тридцать вторым номером значилось неизвестное ему полотно. Там рядом с фамилией Мастера была приписка: «Совместно с учеником. Подпись нрзб». Выходит, этим таинственным НРЗБ и был Михаил Созонтович.
Домик его то возникал, то снова исчезал в этой адовой варильне, где всякая устойчивость представлялась лишь иллюзорным соблазном нескончаемого движения. Но именно его домик помогал зрителю понять, что художник не просто тешился, изображая хаос. В хаосе этом был свой смысл, своя поступательная гармония и даже какое-то теологическое тепло. Волны света, наподобие утреннего верблюжьего тумана, несли на себе самозабвенную жизнь мироздания. Древние письмена превращались в обыкновенные камни, их использовали на постройку жилищ, в которых загорался на мгновение огонек человеческого существования. Никто поначалу не мог заподозрить в этом домашнем, бдительном огоньке какую-либо опасность, но наступал момент, когда мир превращался для него в топливо, благодаря которому он, обежав пространство, безрассудно поднимался к небесам. Вернувшись на землю, он не заставал на ней даже вчерашних пепелищ, а только озера забвения и новые иероглифы незнакомых растений. Да еще косуля, вынырнув из тумана, посмотрит вокруг дочерним глазом и исчезнет до нового пришествия. А колесо все катится и катится, пока не остановит его какой-нибудь новорожденный человек, задумавший приспособить вещь для смысла и целесообразности своей жизни. И время, в котором все это происходит, – вечное настоящее.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу