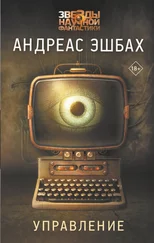— Давай-ка я покажу тебе кое-что в другом роде!
И вот уже она — обнаженная.
— Моя подружка.
Гость чувствует легкую дурноту.
— Что, нравится?
Шепотом:
— Мы с ней уже трахаемся.
Взяв гостя за руку:
— Пошли туда!
Ведет в комнату, пропахшую духами.
— Тут спит моя сестрица.
Сестре уже шестнадцать лет.
С фотографии перед зеркалом смотрит хотя и хорошенькая, но толстушка.
— Погоди-ка!
Баладьи выдвигает ящик комода, бережно разворачивает во всю длину тончайший, алый, как розовый лепесток, бюстгальтер. Ну и большущий же он! Достает еще и трусики, тоже не маленькие, и гладит мягкой тканью по вспыхнувшему румянцем, такому же алому лицу приятеля и, ловко отыскав самую-самую середку, прижимает к его губам.
— Небось тоже еще не пробовал, да?
Все-таки это была не дурнота. Вот когда потянуло на выпивку!
Налей-ка и мне!
Пока Баладьи пошел наливать, гость находит в углу возле девичьего зеркала овальный в разрезе металлический тюбик с губной помадой, открывает его, из-под крышечки, так и брызнув во все стороны, вырвалось целое море розово-малиново-ландышевого аромата, смешанного со сладковатым, липучим запахом жирного карандаша. Нет, это все-таки совсем не дурнота, а больше похоже на то чувство, когда сидишь, беспокойно ерзая, на чем-то жестком.
Ночная тревога. Обезьянки кидались в открытые окна вагонов кокосовыми орехами; это, конечно, не обязательно, но вообще-то мальчишки в тринадцать лет больше интересуются романтикой, чем реальностью, наш тоже со временем повзрослеет. Порванная бумажная штора для затемнения непривычна к такому времени: час ночи. Вообще все не привыкли к воздушным тревогам. Кровь как-то странно распределяется в обмякшем, как мешок, теле, когда сон внезапно прерывается в непривычное время. Стену в подвале еще не успели побелить, указатели с надписями «Запасной выход», «Место пролома» комиссия обещала разместить в ближайшее время. После победы я отправлюсь с родителями в колонии, мальчишка сейчас увлекается утопическими приключенческими романами, действие которых происходит в немецкой черной Африке. Походка словно у лунатика, голова свесилась, и — надо же! — не забыл прихватить под мышкой любимую подушку. Документы, продовольственные карточки, деньги, все ключи — в желтом несессере. Все без труда немедленно можно найти. Отныне жизнь, начиная с часа двадцати пяти ночи, проходит в подвале; ты разговариваешь с родителями как днем; что касается отца, то с ним даже лучше, потому что в виде исключения он тоже тут.
— Жаль будет моих банок, я так старалась, консервировала, — шутит мама, вся бледная, по поводу ожидаемого попадания бомбы.
— Бедная бабушка, за что ей-то еще это переживать! — шепчет она отцу; тот, тоже весь бледный, только кривится и жует губами. А мальчишка что-то там себе кропает.
— Англичанин надругался над дочерью немецкого инженера, — изрекает он.
— Отвратительно, говорит папа и советует придумать что-нибудь получше, тем более что сын еще и не знает, что значит надругаться.
— Уже слишком много немецких женщин и детей стали жертвами надругательства, — напоминает мальчик, терзаясь бессильной яростью.
Ну, наконец-то! Наконец подала голос ближайшая зенитная батарея. Но в час тридцать пять резко взвыла сирена, а затем включился бесконечно длинный гудок: отбой, проходит нездоровая желтизна, начинается обратное шествие привидений, осколки ночи-дня сыплются в постель, следующий миг — трезвон будильника, утренний кошмар начала школьного дня.
В отпуск подлечить нервы . Быть там, где стоит лето, идти, но среди совершенно иного, искусственного ландшафта, тяготясь скукой, тяготясь неизбежным окружением нервнобольного парка, пленом, в который заключена вся окружающая жизнь, небом, расчерченным в железную сетку, тяготясь болезненным, властным, уничижительным присутствием дядюшки. По воле тетушки и мамы, которые в легких платьицах, не спеша, бредут в сестринском согласии где-то сзади, я обречен самостоятельно выдержать прогулку по залитому гудроном гравию наедине с редко показывающимся в нашем кругу родственником, с вечным фронтовым офицером.
— Не сутулься. Опусти руки. Завядшие цветы давно пора было срезать. Видишь там птицу? Где твои глаза, прости Господи! Не может быть, что ты не видишь! У тебя никудышное зрение.
Меня пробирает озноб; я завожу часы, чтобы они шли побыстрее. Затем метры молчания. Высокий, вертикально прямой мужчина, временно избавленный, как всегда, не без помощи вездесущего доктора Бичовски, от военных будней Восточного фронта, смотрит перед собой невидящими глазами, в которых застыла неизбывная животная тоска. Внезапно: резкий, как по команде «Налево равняйсь!», поворот головы; он меряет меня взглядом: снизу вверх — р-р-раз, сверху вниз — два; его взгляд в два счета пригвождает меня к корявому стволу старого бука, я только слабо трепыхаюсь, как пришпиленный. Команда: «Плохо выглядишь! Бледноват! Не кормят тебя, что ли?» Я, запинаясь, бормочу про дополнительные карточки по справке доктора Бичовски, про то, как много пью молока, и про хорошенькую Фини, папину любимицу, которую недавно призвали как связистку, она раньше как-то доставала нам говяжий жир, а теперь это отпало. А если попадешь в заведение для туберкулезников, гулко кашляющих, безнадежно доживающих остаток жизни с дырявыми, легкими, выплевывающих комки вязкой мокроты, оттуда уже не выйдешь, это значит поставить на себе крест. Но тут в зоне видимости появился новый объект: развилка дороги — аллея огибает небольшой пригорок. Жаль, у меня нету мензулы, я бы ее установил, замерил бы расстояния, сделал бы план парка, отметив каждый кустик. Для этого мне хватило бы папиного полевого бинокля, если пристроить к нему масштабную линейку. Я даже ощутил волнующий запах кожаного футляра, перед глазами — желто-голубая кайма, ограничивающая поле зрения.
Читать дальше
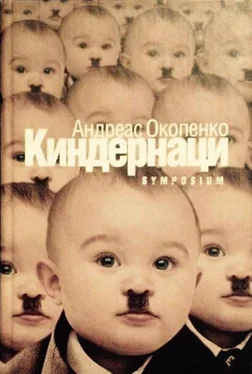
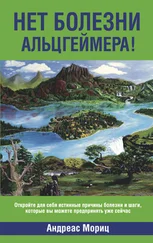
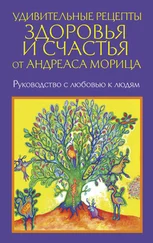

![Андреас Грубер - Сказка о смерти [litres]](/books/413559/andreas-gruber-skazka-o-smerti-litres-thumb.webp)
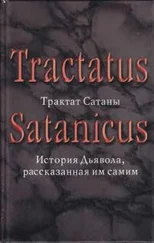
![Андреас Зуханек - Волшебный портал [litres]](/books/432581/andreas-zuhanek-volshebnyj-portal-litres-thumb.webp)
![Андреас Зуханек - Волшебная карта [litres]](/books/433047/andreas-zuhanek-volshebnaya-karta-litres-thumb.webp)