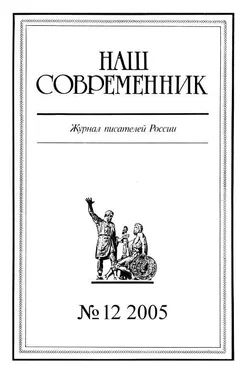Кроме страстного желания заниматься литературным творчеством (это стало смыслом жизни) был у меня за плечами и недюжинный рабочий опыт, сильные руки, выносливость и ещё, как тогда говорили — «бывалость».
Контора геологической партии Московской экспедиции двадцатого дальневосточного района располагалась в подвальном помещении на улице Расковой, туда меня привёл поэт Женя Храмов. Он был в курсе происшедшего со мной, поскольку какое-то время работали мы на радио в одной редакции и находились в добрых, дружеских отношениях. В прошедшем году Женя работал весь полевой сезон в этой партии и порекомендовал меня «своему геологу».
Базировалась партия на острове Большой Шантар в Охотском море. Нам предстояло работать не на одном этом острове, а на всем архипелаге, куда входило ещё семь островов, и лишь один из них был обитаем. Надо было исследовать и оголовок Тугурского полуострова, где до того еще не велись никакие изыскания. На большую часть этой громадной территории вообще не ступала нога человека. «Одиночества не боитесь?» — спросил начальник партии Сергей Иванович Горохов, доброжелательный, бывалый крепыш с простецким лицом. Это был единственный вопрос, заданный мне при приёме на работу. И ещё сказал: «Завтра закажем вам билет на самолёт. Послезавтра вылет. Готовы?».
Не прошло и недели после моего возращения из Адыгеи, а я уже оказался под Комсомольском-на-Амуре, в селе Красном, откуда предстояло вылететь на Большой Шантар вертолётом через Охотское море.
Мне показалось, что рассказ мой слишком затянулся и я злоупотребляю вниманием слушателей.
— Георгий Васильевич, может быть, хватит всех этих давних подробностей?
— Нет-нет, что вы, нам это очень интересно, — поспешно возразил он.
— Юрий Николаевич, вы очень интересный рассказчик. Так редко приходиться слушать подобное, — поддержала Эльза Густавовна.
— Да-да, Эля, ты права. Послушаем дальше…
По всему Охотскому морю густо шли льды. Было оно как мраморное. Белый упокоённый простор в бирюзовых прожилках, которому нет конца. Растаял в сиреневой дымке материк, исчез, погрузился в море позади нас. А впереди только льды и бесконечное небо, сомкнувшееся где-то далеко-далеко с океаном. Мы летим и летим в этот простор, в эту пустоту, и нет даже малого намека, что там, впереди, земля.
Острова возникли внезапно, они словно бы поднялись из глубин океана, взломав бескрайнее ледяное поле, все разом. Голубая чистая вода омывала каждый из них, оттиснув от берегов плотное крошево льда, и потому казались они тоже голубыми. Вертолёт с предельной высоты начал быстро снижаться. Навстречу стремительно понёсся сначала скалистый берег в цветных изломах камня, потом могучая тайга с вечнозелёными кедровниками, светлые сосновые боры, тёмные ельники. Сиреневая сухая марь, на краю которой, у самого моря, лепилось несколько домиков. Это и был единственный обитаемый на всём архипелаге посёлок Большой Шантар.
Время начала полевых работ ещё не наступило. На всех островах по хребтикам водоразделов лежали белые покати ледников, а по распадкам — снега. Из всей партии в посёлке были один геолог, занимавшийся подготовкой к сезону, и нас пятеро, рабочих. Мы каждое утро уходили в тайгу на заготовку дров для кухни. Валили сухие листвени, раскряжевывали их и выносили к просеке, откуда потом вывозили их на коне. Иногда наш завхоз, он же геофизик Володя Агеев, выдавал и «профспецзадания»: у ближнего хребтика, на сухой калтусине, отрывать шурфы. На эту работу неизменно назначал меня и кого-нибудь из нашей братии. Среди работяг я был самый старший, а потому столь «ответственную» работу Володя мог доверить только мне. К тому же в штатном расписании числился я техником-геологом.
Рано утром, получив у Володи продукты на день, мы уходили вверх по речке Амуки, километра за четыре от поселка. Тот хребтик высоко возносился над округой. С него открывались на три стороны неохватные таёжные дали, а на четвёртую — бескрайнее Охотское море. Узкая тропа петляла по берегам горной речушки в зарослях густого кедрового стланика. Приходилось то и дело перебредать достаточно бурный поток, взбираться на крутые базальтовые свалки, пересекать каменные осыпи. И всё вверх и вверх, на взъём.
Впервые этот путь мы проделали с Агеевым. Шёл он впереди легко и неутомимо, как на прогулке. Чего никак нельзя было сказать обо мне и моём спутнике Славке. Был он очень молоденьким, но крепким и сильным парнем. В «геологию» подался, по его признанию, «дабы перед армией мир посмотреть». Но и ему тот путь по таежной тропе оказался почти не под силу. И мне, немало побродившему по свету, показалась та тропа куда как тяжкой. Вылезли на калтусину — языки за плечами. Ещё в начале подъёма поскидывали стёженки, а тут потянули с плеч и мокрые от пота гимнастерки. А Володя будто и не шёл с нами — ни капельки пота, и только румянец на щеках. Посмеивается: «Ничо, парни! Ничо! Шурф отроете, высохнете. Гимнастерки наденьте, дует тут — мигом воспаление лёгких схватите». Пока мы отдыхивались, свалившись в сухие багульники, Володя разметил колышками места для шурфов, посоветовал не сачковать и проворно побежал вниз.
Читать дальше