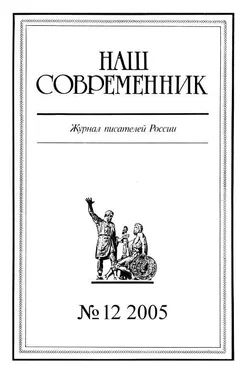Это не лицо, это гримаса.
Многие русские, из нескольких поколений эмигрантов, с возмущением говорили на площадке российского стенда о таком заведомо глумливом подходе к сегодняшнему восприятию русской литературы, а значит, и России.
Возможно, так бы все и прошло без сучка, без задоринки у наших досточтимых либералов, но карты спутал приезд неприглашенной «Литературной газеты» и неофициально приглашенной «Группы 17-ти», представляющей регионы России. Так, от Сибири помимо автора этой статьи присутствовали прозаик В. Казаков и поэт С. Самойленко.
* * *
Возникла интрига.
Запахло скандалом, первые искры которого довелось наблюдать уже в день открытия Салона, когда г-н В. Григорьев сорвал с колонны и принялся топтать плакат «Группа 17-ти» с тем, что, мол, ваша наглядная агитация нарушает замечательный «березовый» дизайн, за который «уплочено».
* * *
Кульминацией стал «круглый стол» «Литературной газеты», прибывшей самочинно и оплатившей зал имени Чехова для оппозиционного выступления. Даже это было непросто и накладно (800 евро), и зал, в отличие от других трех — Пушкина, Толстого и Достоевского, — самый неудобный, дальний, на 3-м этаже, под самой крышей.
* * *
Событие обрело характер знакового.
О нем писали, о нем вещали по «Свободе» и «Голосу Америки» и еще будут писать и вспоминать. Надо сказать, устроители должны быть благодарны присутствию на этом «круглом столе» «ЛГ» Т. Толстой вместе с братом И. Толстым, ведущим радио «Свобода». В результате противостояние взглядов на будущее русской литературы было явлено в лицах, и Алла Большакова, немалая часть доклада которой была посвящена роману «Кысь», обращалась со своей яркой отповедью непосредственно к авторице сего романа-памфлета. Буквально через неделю А. Большакова смогла прочесть этот же доклад в Кембридже.
* * *
От сибиряков твердое и взвешенное выступление прозвучало из уст Валерия Казакова, он выступал после Юрия Полякова, Лидии Григорьевой и Равиля Бухараева (Лондон). В. Казаков не стал оспаривать право постмодернистов на свои художественные методы, на их представительство на подобного рода книжных салонах за пределами Отечества, но поставил под сомнение, что такое право должно быть монопольным.
— Если человека лишить ноги или руки, зрения или слуха, то получим инвалида или урода. Именно в таком уродливом виде и предстает в последние годы российская литература, основной пафос которой состоит в отвержении, уничтожении, попрании советского прошлого, хотя именно из среды партийной элиты и обитателей кремлевских дач произошли многие ненавистники и хулители рухнувшего Союза.
До начала 90-х годов все так называемые лидеры нашей окрашенной в либерально-голубые цвета литературы, так полно и ярко экспонированной здесь и сейчас, представляли из себя борцов за свободу, диссидентствующих либо еще молодых людей, но ушибленных диссидентством и ненавистью к «совку». Они победили в 90-х, они сегодня занимают руководящие позиции, а мы, таким образом, поменялись ролями. Сегодня мы в оппозиции и можем говорить о себе: мы диссиденты, мы во внутренней эмиграции.
Как писал Юрий Кузнецов:
Но я по родному краю
Тоскую в краю родном.
Не странно ли, руководители идеологического отдела ЦК в свое время всячески старались сделать вид, что не существует такого поэта, как Иосиф Бродский, а по прошествии 15 лет с точностью до деталей, словно под копирку, их победители не заметили не только существования, но и смерти гениального поэта уже противоположной традиции. Неужели не смогли простить ему поэтического перевода «Слова о Законе и Благодати»?
Так что пусть мы будем новыми диссидентами, а представленная здесь литературная элита — верными слугами либеральной власти…
* * *
Мое выступление было коротким, и главный его пафос состоял в неприятии феодальной раздробленности современной российской литературы.
В оценке этой насущнейшей проблемы я неожиданно встретил единомышленника в лице ведущего телепередачи «Тем временем» Александра Архангельского, с которым мы пересеклись незадолго до этого — после состоявшегося «круглого стола» по критике. На мой вопрос: возможно ли, с его точки зрения, преодоление этой губительной для литературы феодальной раздробленности, когда книга, изданная в Хабаровске или Красноярске, не выходит за пределы своего региона и остается событием (при условии ума и таланта) лишь для тех потенциальных полутора или двух миллионов читателей, проживающих на территории этого региона, — так вот, на мой вопрос о перспективах единого поля русской словесности А. Архангельский высказал мнение о пока непреодолимых препятствиях на этом пути.
Читать дальше