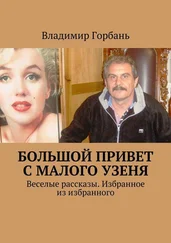Этот скрежещущий звук, которым я оградил себя, долго еще звучал в комнате. Для него он означал освобождение или, быть может, еще больший страх, совершенное одиночество.
Я ощутил потребность взять книгу, Коран или еще какую-нибудь — о морали, о великих людях, о священных днях, меня должна была успокоить музыка знакомых фраз, в которые я верю, о которых я даже не думаю, ибо они всегда во мне, как моя система кровообращения. Мы не думаем о ней, а она для нас все, она дает нам возможность жить и дышать, она позволяет нам высоко держать голову, придает всему свой смысл. Меня всегда странным образом убаюкивала эта цепь красивых слов о вещах, которые мне были известны. В том кругу, где я вращался, я чувствовал себя уверенно, там нет засад, которыми угрожают люди и мир.
Неладно было только то, что хотелось взять любую книгу и что потребовалась защита привычных мыслей. Чего я боялся? От чего хотел бежать?
Тот человек находился еще внизу, я знал, в саду, было слышно, если б он открыл ворота. Не зажигая огня, я стоял в желтой тьме комнаты, мои ноги освещала луна, и ждал. Чего я ждал?
Он был еще внизу, в этом заключалось все. Довольно того, что текия спасла его, он должен уйти. Почему он не уходит?
В комнате пахло старым деревом, старой кожей, старым дыханием, тени умерших юных девушек лишь иногда пробегали по ней, я привык к ним, они жили здесь до меня. И теперь в этот старый мир, в это старое убежище вошел новый, незнакомый человек с белым пятном лица, с раскинутыми руками и ногами, который сам себя распял в воротах. Я знал, что он изменил позу, видел, как обвисло его тело, как вдруг обломилось сплетение его костей, и все стало новым, важным, болезненным, а я помнил его прежнюю судорогу и его усилие, его напряжение, которое живет, борется, не уступает никому, я помнил вытянутые пружины его мускулов, способных на чудо. Мне больше нравилась та, прежняя картина, а не нынешняя, разбитая. Она сулила больше надежды, легче освобождала меня, наполняла уверенностью в собственных силах. В другой таились зависимость, отчаяние, нужда в опоре. Вспомнилось виденное или угаданное движение, которым он хотел привлечь мое внимание. Он призывал меня, просил не проходить мимо него, его ужаса, словно меня ничто не касается. Если же он этого не сделал, если я лишь вообразил себе это неизбывное движение жизни, которая обороняется и призывает на помощь, тогда он совсем без сил, а теперь и без надежды. Жаль, что мне ничего о нем не известно. Если он виноват, я бы не стал думать об этом человеке.
Я подошел к окну и испугался лунного света, хлынувшего в лицо. Словно он обнаружил меня. Поглядел — в воротах никого не было, значит, ушел. Я осмотрелся, надеясь, что и в саду никого нет. Однако человек не ушел. Он стоял под деревом, в тени, слившись со стволом. Я заметил его, когда он шевельнулся, увидел его ноги в потоке света, тень обрубала их выше колен.
Он не глядел ни на дом, ни на окно, он ничего больше не ждал от меня. Вслушивался в звуки улицы, различая, вероятно, даже кошачьи шаги, шум встревоженной птицы, свое робкое дыхание. Потом он посмотрел на крону дерева, и я последовал за его взглядом: листья шелестели, тронутые полуночным ветром. Молился ли он, чтоб ветер утих, или проклинал этот шелест? Ведь он мешал различать звуки за стенами текии, а это могло стоить ему жизни.
Он повернулся вокруг дерева, не отрывая от него спины, передвигая по окружности посеребренные ноги, потом отделился от ствола, беззвучным и словно бы лишенным тяжести шагом приблизился к воротам и осторожно наложил засов. Вернулся, держась в тени дерева, подошел к стене, нагнулся над водой, посмотрел вверх, в ущелье, и вдоль по течению, в сторону городка, отступил и исчез в густых зарослях. Услыхал ли он, увидел ли что-то, или не посмел выйти, или некуда было?
Хотел бы я знать, виновен ли он.
Вот так я прошел мимо, опустив взгляд в землю, закрыл двери текии, заперся у себя в комнате и не смог уйти от этого человека, ворвавшегося в мой покой, заставившего меня думать о нем и, стоя у окна, наблюдать за его ожившим страхом. Он заставил меня позабыть этой ночью о чужом грехе, о ростках своего, о двух странных руках в полумраке, о своих заботах. А может, он-то и породил их.
Надо было повернуться спиной к окну, зажечь свечу, выйти в другую комнату, если я не хотел, чтоб его без нужды мучило освещенное окно, что-нибудь сделать, только не то, что я делал. Ибо в этом — скованность, болезненный интерес, неуверенность в себе самом. Словно бы исчезла вера в себя, в свою совесть.
Читать дальше
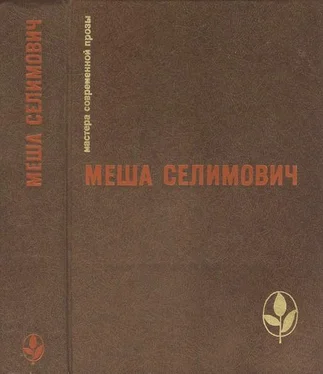


![Вержилио Ферейра - Избранное [Явление. Краткая радость. Знамение — знак. Рассказы]](/books/33192/verzhilio-ferejra-izbrannoe-yavlenie-kratkaya-rados-thumb.webp)