На сцену вышла арифметика – со множеством ног, позвоночников и голов, с безжалостными нулевыми глазами. Два плюс два равняется четырем – вот что она говорила. А если нет двух и двух? Тогда ничего не сложится. И не складывалось, я никак не могла заставить. Не получалось в бухгалтерских книгах перекрасить красные цифры в черные. Я ужасно переживала, словно сама тому виной. По ночам, закрывая глаза, я видела цифры, они строились в шеренги на квадратном дубовом столе – шеренги красных цифр, точно механические гусеницы, пожирали остатки наших денег. Когда приходится продавать вещь дешевле, чем стоит её производство, – а именно это происходило в последнее время на фабриках «Чейз и Сыновья», – цифры так себя и ведут. Вели они себя отвратительно – ни любви, ни справедливости, ни милосердия. А что вы хотите? Они же просто цифры. У них нет выбора.
В начале декабря отец объявил о закрытии предприятий. Это временно, сказал он. Он надеялся, что это временно. Говорил об отступлении, об окопах и перегруппировке. Просил понимания и терпения. Собравшиеся рабочие выслушали его в настороженном молчании. Сделав это объявление, отец вернулся в Авалон, заперся в башне и напился в стельку. Слышался звон – билось стекло. Бутылки, несомненно. Мы с Лорой сидели на кровати в моей комнате, крепко держась за руки, и прислушивались к ярости и горю, что домашним ураганом бушевали у нас над головой. Отец давно уже не устраивал ничего подобного.
Он, должно быть, чувствовал, что подвел своих рабочих. Что он неудачник. Что бы он ни делал, все бесполезно.
– Я помолюсь за него, – решила Лора.
– Думаешь, Богу есть дело? – сказала я. – Да ему плевать. Если он есть.
– Этого не знаешь, пока, – отозвалась Лора.
Пока что? Я поняла Лору: мы и раньше говорили на эту тему. Пока не умрешь.
Через несколько дней после отцовского объявления показал зубы профсоюз. В нём и раньше были активные члены, и теперь они предложили вступать всем. Митинг устроили рядом с закрытой пуговичной фабрикой, призвали рабочих объединяться, потому что (как уверяли), когда отец снова откроет фабрику, он станет драть с рабочих последнюю шкуру, а платить гроши. Он ничем не отличается от остальных: в тяжелые времена кладет деньги в банк и сидит, палец о палец не ударяя, пока люди не сломаются и не дойдут до ручки, а уж тогда он не упустит своего и вновь нагреет руки на несчастьях рабочих. Он со своим огромным домом и его расфуфыренные дочки – ничтожные паразиты, живущие трудом народа.
Видно, что эти так называемые организаторы – не здешние, заметила Рини, пересказывавшая последние сплетни за кухонным столом. (Мы больше не ели в столовой, потому что отец там больше не ел. Он забаррикадировался в башне, и Рини носила ему подносы с едой.) Эти хулиганы понятия не имеют о приличиях, раз приплели и вас двоих, когда каждый в городе знает, что вы тут ни при чем. Она посоветовала не обращать внимания. Легко сказать.
Некоторые рабочие сохраняли верность отцу. Рассказывали, что на собрании разгорелись споры, они становились все жарче, и дело кончилось потасовкой. Страсти накалились. Кого-то ударили ногой по голове и пришлось его везти в больницу с сотрясением мозга. Он был одним из забастовщиков – теперь они называли себя забастовщиками; но в несчастном случае обвинили их самих: заварили кашу, а теперь кто знает, чем дело кончится.
Лучше не начинать. Лучше прикусить язык. Гораздо лучше.
К отцу приехала Кэлли Фицсиммонс. Сказала, что беспокоится. Её беспокоит, что он опускается. Она имела в виду, морально. Как мог он так высокомерно и мелко притом обойтись с рабочими? Отец посоветовал ей смотреть в лицо реальности. Назвал её утешительницей Иова [78]и прибавил: «Кто тебя подбил? Красные друзья?» Она ответила, что приехала сама, из любви, потому что, хоть он и капиталист, но всегда был приличным человеком, но теперь переродился в бессердечного плутократа. Нельзя быть плутократом, если разорен, возразил отец. Кэлли сказала, что он может пожертвовать своим добром, какое есть. Отец сказал, что добра у него не больше, чем у неё, хотя она, конечно, очень добрая, раз даром отдается любому, кто попросит. Кэлли сказала, что он тоже в свое время не возражал против подаяний. Отец сказал, да, но какие скрытые расходы: вначале вся еда, что была в доме, для её друзей-художников, потом – его кровь, и теперь – душа. Она назвала его буржуазным реакционером. Он её – трупной мухой. Они уже друг на друга орали. Затем хлопнула дверь, автомобиль забуксовал на гравии, и на этом все кончилось.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
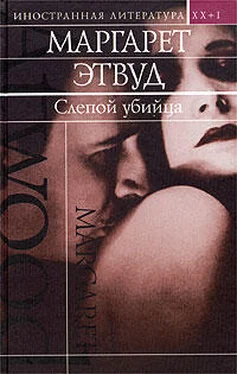



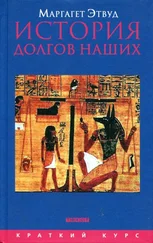
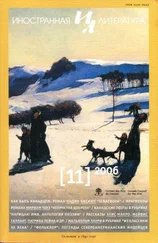
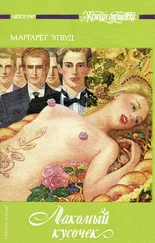


![Маргарет Этвуд - Лакомый кусочек [litres]](/books/384342/margaret-etvud-lakomyj-kusochek-litres-thumb.webp)
![Маргарет Этвуд - Избранные произведения в одном томе [Компиляция]](/books/389748/margaret-etvud-izbrannye-proizvedeniya-v-odnom-tome-thumb.webp)

