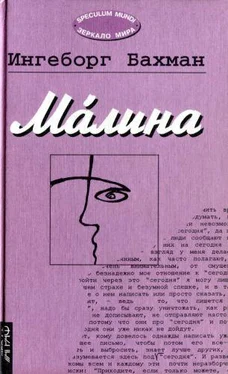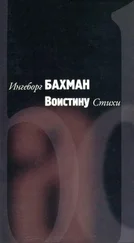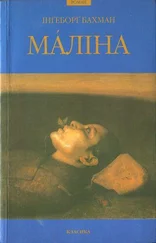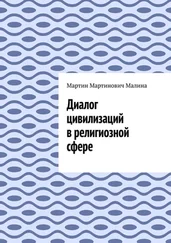Сегодня наконец была произнесена одна фраза, но не господином Седлачеком и не юным Фуксом, а почтальоном, которого я, по-моему, не знаю, который даже ни разу еще не являлся с поздравлениями между Рождеством и Новым годом и у которого, таким образом, мало причин быть со мной любезным. Сегодняшний почтальон приходит и говорит: «Вы, конечно, получаете только приятную почту, а для меня это тяжкое бремя!» Я возразила: «Да, вам тяжело, но давайте сперва посмотрим, действительно ли вы принесли приятную почту, к сожалению, иногда мне приходится из-за вашей почты страдать, и вы из-за моей страдаете тоже». Этот почтальон если и не философ, то наверняка плут — ему доставляет удовольствие сразу выложить мне сверх двух обычных писем четыре конверта с траурной каемкой. Быть может, он надеется, что какое-то извещение о смерти меня обрадует. Но то, единственное, все не приходит, его все нет, мне и смотреть нечего, а эти четыре конверта я нераспечатанными бросаю в корзину. Будь среди них то самое, уж я бы почувствовала, а этот хитрец почтальон, возможно, меня раскусил, ведь сообщников находишь только среди людей, которых едва знаешь, среди нештатных почтальонов, вроде этого. Я больше не желаю его видеть. Спрошу господина Седлачека, зачем нам понадобился дополнительный почтальон, который едва знает наши дома, едва знает меня, да еще делает замечания. В одном письме содержится напоминание, в другом некто пишет, что прибывает завтра в 8.20 на Южный вокзал, почерк мне как будто бы незнаком, подпись неразборчива. Надо будет спросить Малину.
В иные дни года почтальоны видят, как мы бледнеем и как мы краснеем, и, возможно, именно поэтому их не приглашают войти, сесть, выпить кофе. Слишком уж они посвящены в дела страшного свойства, однако, бесстрашно носят все это по улицам, и вот их выпроваживают за дверь, с чаевыми, без чаевых. Судьба их нисколько ими не заслужена. Обращение с ними, какое позволяю себе я тоже, — безрассудное, высокомерное, совершенно недопустимое. Даже получая открытки от Ивана, я не приглашаю господина Седлачека распить со мной бутылку шампанского. По правде говоря, у нас с Малиной не стоят наготове бутылки шампанского, но мне следовало бы припасти одну для господина Седлачека, ведь он видит, как я бледнею и краснею, он кое о чем догадывается, должно быть, он что-то знает.
Что почтальоном можно стать по призванию и что только из недомыслия разноску почты выбирают как любую другую профессию и ни во что ее не ставят, доказал знаменитый почтальон Краневицер из Клагенфурта, против которого тогда все-таки возбудили уголовное дело и приговорили этого совершенно непонятого человека, затравленного общественностью и судом, к нескольким годам тюрьмы за хищения и злоупотребление служебным положением. Судебные репортажи о деле Краневицера я читала внимательней, чем отчеты о самых громких процессах над убийцами за все последние годы, и к человеку, который в то время только удивлял меня, я питаю ныне глубочайшую симпатию. С определенного дня, не попытавшись даже назвать причины, Отто Краневицер перестал разносить почту и неделями, месяцами громоздил до потолка в своей старой трехкомнатной квартире, где жил один, груды корреспонденции; он продал почти всю мебель, чтобы освободить место для этой растущей почтовой горы. Письма и пакеты он не вскрывал, ценные бумаги и чеки не присваивал, денежные купюры — от матерей сыновьям — не похищал, ни в чем подобном он уличен не был. Просто этому чувствительному, нежному, рослому человеку вдруг стало невмоготу разносить почту, хотя он вполне сознавал возможные последствия своей рискованной затеи, ведь именно из-за нее мелкий служащий Краневицер был вынужден с позором и скандалом покинуть австрийскую почту, которая немало кичится тем, что держит у себя на службе только надежных, энергичных и выносливых почтальонов. Однако в каждой профессии должен найтись хотя бы один человек, охваченный глубокими сомнениями и готовый вступить в конфликт. Именно для разноски писем требуется скрытый страх, сейсмографическая чувствительность к сотрясениям, которая обычно признается лишь за более высокими, за высочайшими профессиями, как будто бы почта не может также переживать кризис, как будто бы для нее не существуют Мышление — Воление — Бытие, не существует то щепетильное и благородное самоотречение, какое обычно приписывается всевозможным людям, которые, получая более высокое жалованье и восседая на кафедрах, вправе размышлять о доказательствах бытия Божия, раздумывать на темы Ontos, On, Aletheia [77] О сущем, сущее, истина (древнегреч.) .
или, допустим, о возникновении Земли или вселенной! Однако безвестному, плохо оплачиваемому Отто Краневицеру приписывали только подлость и забвение долга. Не было замечено, что он впал в раздумье, что его охватило удивление, а это ведь вообще начало всякого философствования и вочеловечения, и, присмотревшись к вещам, которые вывели его из равновесия, нельзя отказать ему в знании дела, ибо никто, кроме него, тридцать лет разносившего почту в Клагенфурте, не был в такой мере способен вникнуть в проблему почты, в то, что есть в ней неразгаданного.
Читать дальше