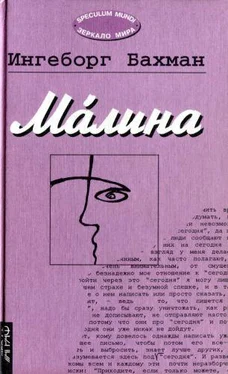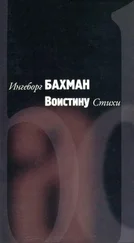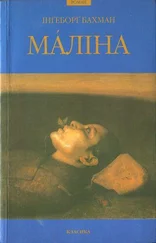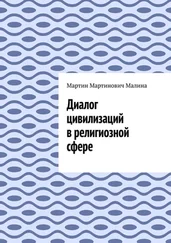Отец подписывает какую-то бумагу, наверняка она опять связана с объявлением меня недееспособной, однако другие начинают замечать мое присутствие. Тяжело и жадно сопя, отец садится есть, я знаю, что опять никакой еды не получу, и я вижу его во всем его безмерном себялюбии, вижу глубокую тарелку бульона с омлетом, потом ему подают шницель в панировке и чашку с нашим яблочным компотом, тут уж я выхожу из себя и, заметив на столах большие стеклянные пепельницы и пресс-папье, — ведь я пришла сюда безоружной, — хватаю первый тяжелый предмет и кидаю его аккурат в суповую тарелку, мать испуганно вытирает лицо салфеткой, я хватаю тяжелый предмет и мечу его в тарелку со шницелем, тарелка разлетается на куски, а шницель летит в лицо отцу, он вскакивает, отталкивает людей, которые втиснулись между нами, и прежде чем я успеваю в третий раз кинуть в него тяжелый предмет, отец подходит ко мне. Теперь он готов меня выслушать. Я совершенно спокойна, я больше не боюсь и говорю ему: «Я только хотела тебе показать: я способна сделать то же, что и ты. Ты просто должен это знать, больше ничего». И хотя бросить в третий раз я не успела, по его лицу течет липкий компотный сок. Ему вдруг больше нечего мне сказать.
Я проснулась. Идет дождь. Малина стоит возле открытого окна.
Малина: У тебя можно было задохнуться. Курила ты тоже слишком много, я тебя укрыл, воздух пойдет тебе на пользу. Что ты из всего этого поняла?
Я: Почти все. Однажды мне показалось, будто я ничего больше не понимаю, мать совершенно сбила меня с толку. Почему мой отец одновременно — моя мать?
Малина: Почему? Если кто-то для другого — все, то в его лице могут сочетаться многие лица.
Я: Ты хочешь сказать, что кто-то некогда был для меня всем? Какое заблуждение! Это горше всего.
Малина: Да. Но ты будешь действовать, тебе придется что-то сделать, придется уничтожить все лица в одном лице.
Я: Но уничтожили-то меня.
Малина: Да. И это верно.
Я: Как легко становится об этом рассуждать, уже намного легче. Но как тяжело с этим жить.
Малина: Говорить об этом не надо, с этим надо именно жить.
У отца и на этот раз лицо матери, я не могу толком разобрать, когда он отец, а когда — мать, затем я прозреваю в своем подозрении, и мне ясно, что он — ни то, ни другое, а нечто третье, и потому я в сильнейшем волнении, среди множества людей, ожидаю нашей встречи. Он возглавляет то ли предприятие, то ли правительство, ставит спектакли в театре, у него есть дочерние права и дочерние компании, он без конца отдает приказы, разговаривает по многим телефонам, и потому я пока не могу заставить его меня слушать, разве что в тот миг, когда он раскуривает сигару. Я говорю: «Отец, на сей раз ты будешь со мной говорить и ответишь на мои вопросы!» Он досадливо отмахивается, ему это уже знакомо — как я прихожу и задаю вопросы, и он продолжает звонить по телефону. Я подхожу к матери, на ней отцовские брюки, и говорю ей: «Не далее как сегодня ты будешь со мной говорить и держать передо мной ответ!» Однако моя мать, у которой и лоб тоже отцовский и так же, как у него, собирается в две складки над усталыми, вялыми глазами, бормочет что-то вроде: «позднее» и «нет времени». Теперь на отце ее юбка, и я говорю в третий раз: «Думаю, скоро я буду знать, кто ты, и еще сегодня ночью, еще до исхода ночи скажу это тебе напрямик». Однако этот человек невозмутимо садится за стол и делает мне знак уйти, но у двери, которую открывают передо мной, я поворачиваюсь и медленно иду обратно. Иду, собрав все силы, и останавливаюсь у большого стола в зале суда, в то время как человек за столом напротив, под крестом, начинает разрезать свой шницель. Я пока ничего не говорю, однако выказываю отвращение к тому, что он лезет вилкой в компот и благосклонно улыбается мне, равно как и публике, которую неожиданно принуждают очистить зал; он пьет красное вино, рядом уже снова лежит сигара, а я все еще ничего не говорю, но он ведь не может заблуждаться насчет того, что значит мое молчание, ибо наступил решительный момент. Сперва я беру тяжелую мраморную пепельницу, взвешиваю ее в руке, поднимаю — человек спокойно продолжает есть, — целюсь и попадаю в тарелку. Вилка выпадает у него из рук, шницель летит на пол, нож он еще держит и поднимает им шницель, а я в ту же минуту поднимаю следующий предмет — ведь он мне все еще не отвечает — и целюсь точно в чашку с компотом, он отирает салфеткой жидкость с лица. Теперь он знает, что я больше не питаю к нему никаких чувств и могла бы его убить. Я бросаю в третий раз, я целюсь и целюсь, целюсь точно, и брошенный мною предмет сметает все со стола, с него летит хлеб, бокал для вина, осколки и сигара. Отец прикрывает лицо салфеткой, ему больше нечего мне сказать.
Читать дальше