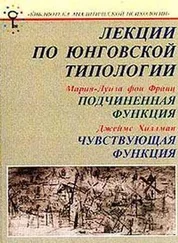Он снова принимается объяснять:
— Быку предстоит самому решить, как ему поступить с человеком. Человек не должен навязывать ему свою волю: необходимо вернуть животному его достоинство. Это, если угодно, своего рода политическая акция — ненасильственная и в то же время рискованная. Сначала человек выходит на арену одетым. Арена пуста, но быка выпустят с минуты на минуту. Когда он появится, человек начнет раздеваться, сбрасывая с себя одежды, одну за другой. Он совершенно один на арене, если не считать, пожалуй, лошади, — нужно, чтобы вся формальная сторона корриды была воспроизведена, но в принципиально новых условиях. Это, по сути дела, символическое изображение перемен, происходящих в обществе.
Я чувствую, как мало-помалу втягиваюсь в игру. Однако для меня это еще более мучительно, ибо вжиться в нее по-настоящему я не могу — голос Бартелеми ведет меня в какой-то странный мир, где я обречен на молчание и на полное неведение того, что будет через минуту. Куда мы движемся, Жоарис и я? Куда плывем на этом горящем корабле, сжигая корабли за собой? Зачем правим прямо на мины, не оставляя себе пути к отступлению? Именно этого я боялся и избегал всю свою жизнь — неопределенности.
Позади у меня — деревянные скамьи, где сидят во время спектаклей равнодушные к комфорту зрители театра «Буфф». Прямо передо мной — сценическая площадка и освещенный со спины силуэт Бартелеми. Дальше, там, где некогда была сцена, зияет пустота. Заунывный голос, к которому я прислушиваюсь, звучал бы, наверное, гораздо мягче, если бы я умел ему ответить. Голос произносит:
— Бык выходит на арену, глядя на человека исподлобья, но без опаски. До сих пор человек делал ему только добро…
Я вижу появляющегося из темной пустоты быка, и Жоарис медленно кладет хлыст на пол. Потом он распрямляется, снимает камзол, тот падает. Он не спеша развязывает галстук, стягивает его. Расстегивает рубашку и бросает ее на камзол. Секунду он стоит неподвижно, скрестив руки на обнаженной груди.
— Человека охватывает нерешительность, но он должен сдержать свое слово…
Жоарис расстегивает пряжку и отшвыривает ремень. Резким движением сбрасывает сапоги, потом брюки и наконец трусы — все это он проделывает не дрогнув, с поразительным самообладанием. Затем поворачивается к бездне, разверстой на месте исчезнувшей сцены, и раскидывает руки.
И тут у меня из горла вырывается крик. Такой же, как тот, что много лет назад вырвался из горла незнакомца, когда смерть вот-вот должна была положить конец страданиям Федры. Крик, который я бы, наверное, не издал, будь у меня возможность облечь свое смятение в слова.
Только падение может оборвать этот крик. Я падаю на холодный битум театра «Буфф-дю-Нор». Успеваю ощутить смутную тоску по красным коврам и теряю сознание. Очнувшись, я обнаруживаю склонившееся надо мной встревоженное лицо. Никогда еще я не видел Жоариса таким растерянным.
— Ну как, vî tchêt, тебе не лучше?
Я улыбаюсь, услышав это обращение времен нашего детства.
— Как ты меня напугал! Что с тобой?
Я отвечаю, что не знаю, ибо ничего другого сказать не способен.
Жоарис помогает мне подняться, ведет к скамье. Он заботливо выбирает ту, что застелена куском мешковины, словно угадав мою тоску по мягкому. Одеться он не успел, но это нисколько не мешает ему чувствовать себя абсолютно нормально. Только убедившись, что я сижу удобно и мне ничего не нужно, он принимается одеваться. Затем усаживается на скамью рядом со мной. Он ведет себя как ни в чем не бывало и больше не спрашивает, как мое самочувствие.
— Ну, что скажешь о нашей маленькой репетиции? Это только прикидка. Завтра ты сам наденешь все это, — он похлопывает по отвороту камзола, — и покажешь свой вариант. Если только ты не против костюма для верховой езды. По-моему, это то, что надо. Костюм тореро все-таки отдает маскарадом, и потом это было бы чересчур нарочито, в лоб. Всадник и тореро в каком-то смысле персонажи одного плана — оба властвуют над животным, подчиняют его своей воле. Кроме того, костюм наездника предполагает наличие лошади, он будет напоминать о связи этих двух животных, которых человек поработил.
Заметив, что я продолжаю молчать, Бартелеми иронически улыбается.
— Не стесняйся, Кревкёр, говори, что думаешь.
Ему кажется, что мне не вполне ясен его замысел и оттого я молчу. Он понимает, что меня надо ободрить, но ободрения принимают у него форму объяснений. У него дидактический склад ума.
Читать дальше