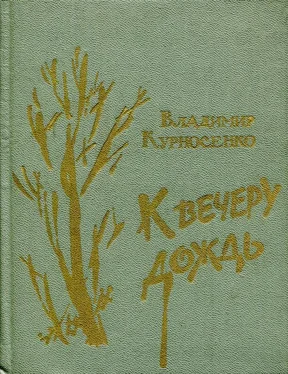— Сволочи, — шептала Холодкова.
А она гладила ей руку: ну-ну, ну-ну, успокаивала и ее и себя. И сволочи, думала, и не сволочи. И так и не так. Все, по-видимому, сложнее, все не так-то наверное просто. Ох, думала, задубелая, расспасительная ты наша диалектика! И смотрела, как спит Холодкова (та уснула), как отходит, отмокает, расслабляясь, ее лицо в мелких горестных морщинках.
А потом Холодкова проснулась, повернула к ней голову и сказала такую штуку:
— Вы не смогли бы (не называя по имени-отчеству), вы не смогли бы, — сказала, — дать мне? — И подняла тяжелые веки над светлыми глазами. В упор.
— Смогла…
— Я одного человека любила, — зашептала Холодкова и осеклась. — Раньше.
И отвернулась к стене, как когда-то Сева, как все, как сама бы отвернулась, когда некому и не от кого ждать. Когда один на один — и стена.
Господи, думала, господи, дай мне сил быть с нею и не бросить ее.
— Если вы умрете, — сказала она вслух, — я тоже умру.
И стало легче.
— И он меня любил! — как бы не слыша ее, хрипло выкрикнула Холодкова. — И он, и он, и он!
И он ее любил. И он любил свою Холодкову.
«Я буду приходить к ней. Я буду ходить к ней через день. Мы будем разговаривать и вместе готовить для ее сына».
И знала, знала: ей Холодкова не нужна. Не нужна. И не будет она приходить… Нет! Потому что чужая беда — это чужая беда и не проводить человеку человека до пропасти, если только не канаты, не лианы, не кровная, не смертная между ними связь. Дай-то бог до ограды, до крылечка. Во всяком случае ей, «дорогой Екатерине Ивановне», не надо бы так разгоняться. Слабо́ ей. Слабо. Ну, а кто, кто смог бы?
— А сын?
Холодкова усмехнулась: сын? Она не понимала, о чем ее спрашивают. Бедный парень, он-то ведь и в самом деле будет с нею, он не отдаст ее в дом инвалидов, он, да, да, он сделает коляску с ручным велосипедом и вынесет свою маму во двор. Сначала коляску, а потом мать. И будет выносить, и заносить, и снова выносить, и каждый день, каждый день, годы. А потом в один из дней он приведет в дом невесту, веселую заводскую девушку в кудряшках, и та, красавица, однажды вдруг устанет терпеть и про себя незаметненько спросит: а зачем? Зачем, спросит она, это вот все? Терпеть?
— Вы хорошая.
Это Холодкова сказала. И улыбнулась, глянь-ка, улыбнулась! Передумала, значит, умирать. Вот ведь как бывает. Вот ведь.
— Хотите, Катерина Ивановна, я вам будущее ваше скажу!
И улыбается, улыбается: морщинки речками в море, в голубые славные ее глаза. И даже лукавство в них, гадалочье лукавство, ах милая… ах ты, моя милая! И хорошо уже, и неловко, и домой бы теперь к себе, к фотокарточкам своим, а Холодкова берет ее руку и, щекоча, водит курносым ногтем по ладони, по линиям жизни ее: «Он приедет, Катерина Ивановна, он вернется, вы ему еще сына родите, вот увидите, я знаю!» Она знает. И радуется, и светится вся, простая душа, забыла горе, радуется за Катерину Ивановну свою.
О, господи!
Было темно, шла домой, и тоже улыбалась, и, кажется, тоже плакала.
Но чисто плакала, без себя. Любить, думала, осторожно и нежно, до самого-самого донышка, не оставляя запаса на черный день. Черный день наступил, вот он! И мы не умрем пока с Холодковой, мы еще поживем и поучимся.
Где-то тут же у обочины, не доходя немного до дому, должна лежать черная птица, ворон. Но было темно, а фонари освещали одну дорогу.
Приоткрыла дверь, вынула из замка (плыч-чк-чку) ключ и впервые за Волчьи эти годы загадала: ну а вдруг? Если Женя там, за дверями сейчас? Дала ему второй ключ и забыла, а он вот не выдержал, не сдюжил в разлуке и дня… Может такое быть? Может, может. Только нет там никакого Жени. Уехал Женя. Снимай плащ, волчица, вздевай свои старые тапки и пожалуйста, пожалуйста, проходите-ка в комнату. Здрассте!
И вправду: на тахте фотокарточки, а верхняя его — Женечки.
Взяла в руки и пошла ходить туда-сюда с угла на угол, вглядываясь, любуясь, ходила, как сумасшедшая, как родившая только что мать. Мальчинька ты мо-ой, курточка ты моя вельветовая, замочечки вы мои на кармашках! А кто курточку шил? Кто-о? Ма-а-ама шила. Мамочка, мамочка, которая нас не любит. И пусть, пускай себе не любит, мы на нее не в обиде, понимаем-с. Сыночек ведь, сыночек, а сыночек-то фыр-р на море простым матросом, — а из-за кого? Понимаем, и не в обиде. А волосы-то у сыночка нашего вон какие, врастрепочку, не догадаешься, какого даже цвета, сивые, сивые, что ли? Впрочем, он, Женечка, и весь незаметный. Пока не всмотришься. А всмотришься (давай-ка, давай!) — еще захочется, и чем дальше — больше. Любимая ее фотография: девятый класс. Наводка на резкость подгуляла (её наводочка, вечный ее ассистентский грех), зато смысл, смысл каков! Вышел из школы, под мышкой папочка, круглая от книжек — замок до середины не свести, молнию-то, и вперед в полный шаг до самого горизонта по белой, так сказать, скатерти. Аж ботинок передний разогнавшимся желтым пятном. Старенький его, Женин, «Зоркий», старый товарищ на коричневом изжульканном ремешке. Сколько же они тогда нафотографировали им, сколько нащелкали! И лес-то, и траву у деревьев, и снег на ней, и плывущие эти фонари во тьме, и луна сквозь ветки березы во дворе. Старались ребятки. Остановись, остановитесь, пожалуйста, Мгновение! И лицо его, Женино, и лицо. Вот оно: водой под солнцем, лесом на рассвете, костром из высохших белых веточек… И хватит, хватит уже. Иди-ка лучше, девонька, в ванную… в душ… Под горячие — ф-ф-струи.
Читать дальше