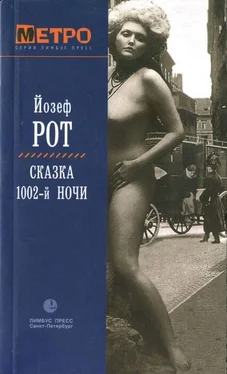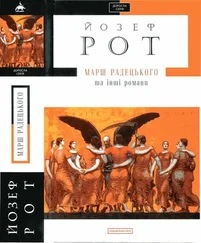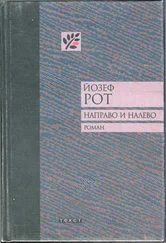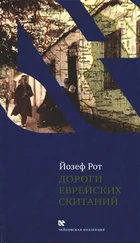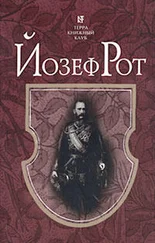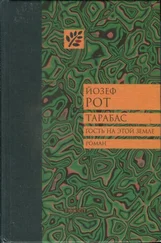И вот первый вечер — спальня в доме якобы еще не готова, Тайтингер вынужден заночевать на постоялом дворе. Здесь за большим коричневым столом сидят возле большой голой глиняной печи несколько мужиков. Янко, трактирщик, так и вьется вокруг барона, хотя и знает, что Тайтингеру ничего не хочется слышать, да и сам рассказывать он тоже не собирается. Крестьяне привыкли орать во весь голос или молчать; тихо разговаривать они не умеют, а орать в присутствии барона стесняются. Решаются время от времени лишь на то, чтобы выколотить трубку, но и это стараются делать тише всегдашнего, и не о край стола, а о каблук под столом. Когда же наконец появляется вахмистр и встает навытяжку перед бароном, а тот приглашает его сесть, протягивает руку и даже выпивает с ним по стаканчику, мужики окончательно замирают, чтобы не сказать обмирают. Они сидят повесив головы и лишь изредка, украдкой, поглядывая на Тайтингера. Барон и вахмистр беседуют по-немецки, мужики понимают едва ли десятую часть произносимого, но, разговаривай те по-словацки или по-украински, мужики испытывали бы ничуть не меньший трепет.
Тайтингер находит молчание мужиков само собой разумеющимся. С тех пор как он стал помещиком, да и в более ранние годы, он был здесь в общей сложности раз десять, не больше, — и мужики всегда оставались безмолвны. Но вахмистр, знающий, как они обычно шумят, говорит барону:
— Они молчат от страха перед вами.
Страх — передо мной? — думает Тайтингер.
— Да я им ничего не сделаю, — говорит он.
— Да как раз поэтому, господин барон, — говорит вахмистр.
— Это неприятно? — заключает Тайтингер.
Вахмистр подходит к мужикам и говорит им по-словацки, что господин барон не желает, чтобы они молчали из-за него. Это почти приказ. Мужики заговаривают, произносят по два-три слова каждый, произносят их без малейшей охоты. Затем снова умолкают. Хозяин подает гуляш и пиво. Тайтингер с вахмистром едят и пьют.
Вдруг дверь отворяется, и вошедший в трактир молодой человек направляется прямо к Тайтингеру. Барон перестает есть, но продолжает держать в руках нож и вилку. Он смотрит на молодого человека, кажущегося ему незнакомцем.
— Привет, Ксандль! — говорит вахмистр.
Всем здесь известно, что это внебрачный сын барона, и теперь мужики во все глаза смотрят на них обоих. Те, что сидели спиной к Тайтингеру, тоже поворачиваются, чтобы ничего не упустить. Барон по-прежнему внушает страх, но любопытство этот страх пересиливает, а злорадство — оно и вовсе вознаграждается сторицей. Не хватает только, чтобы сюда вошел кто-нибудь из кредиторов Тайтингера: мужики знают, что барон увяз в долгах.
— Ваш сын? — спрашивает вахмистра Тайтингер.
— Нет, — отвечает юноша. — Я ваш сын, господин барон.
— A, — говорит барон. — Значит, вы Шинагль!
— Да, — подтверждает тот.
Тайтингер внимательно разглядывает юношу. На нем зеленый бархатный костюм, рукава коротки, и из них торчат слишком большие, красные руки с неаппетитными ногтями. Голова еще куда ни шло; Тайтингер старается обнаружить хоть малейшее сходство молодого человека с собой, но у него при всем желании ничего не выходит. Глаза у юноши как бы из голубого фарфора, с воспаленными красными веками, он постоянно кривит рот, уши его пылают, голова обрита наголо, так что не понять, какого цвета у него волосы; он без конца мнет в руках, в своих ужасных ручищах, синюю шапку с потрескавшимся лакированным козырьком, всю в чернильных пятнах. Ни секунды не стоит он на месте, переминается с ноги на ногу, иногда принимается раскачиваться на носках или на пятках. Тайтингер в жизни не видывал подобного существа. Он уже подумывает о том, чтобы уехать завтра же.
— Да, господин Шинагль! — говорит он. — Что же вам угодно?
Он произносит это всегдашним, а точнее, уже былым баронско-ротмистрским тоном, медленно и небрежно, но вместе с тем резко и звучно.
Юноша отшатывается:
— Я хотел узнать, как поживает моя матушка!
Он отвечает очень громко, голос его кажется Тайтингеру тоже в каком-то смысле багрово-красным, подобно ушам и кулакам парня. Он невыносим, думает Тайтингер, отодвигает гуляш и пьет пиво.
— Чего вы хотите? — спрашивает барон еще раз.
— Узнать, как дела у матери, — повторяет Ксандль.
Барон погружается в размышления — но не о самочувствии и делах Мицци Шинагль, а о том, как ее назвать: госпожа Шинагль, ваша мать, или барышня Шинагль, ваша мать. Мысль о том, чтобы сказать просто «ваша матушка», даже не приходит ему в голову.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу