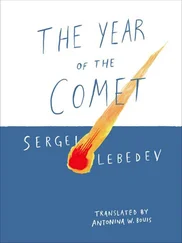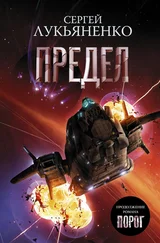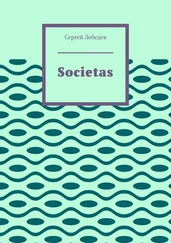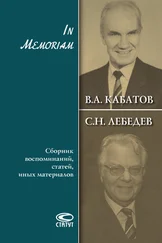Повторил — и еще успел поразиться, что нет временных различий для такого рода состояний, которые безошибочно узнаются, когда они уже есть внутри тебя. Нет ни сомнений, ни борения, ни готовности, ни решимости — только понимание, снимающее выбор, развилку, отменяющее второй путь; и тогда ты в полноте своей свободы говоришь в ответ на «Ты войдешь и больше оттуда не выйдешь» — «Теперь открой мне горные ворота», говоришь так потому, что вдруг осознаешь: все другие, кто входил, входили со страхом в сердце, входили не своим путем, ведомые ложными причинами, от долга до тщеславия, а ты тот единственный — в смысле жизненной точности, а не в смысле избранничества, — для кого этот путь верный согласно направлению внутреннего пути, пути жизни.
Красный снег падал над тундрой до Ледовитого океана; земля была красна, а вода поглощала его, и темные зеркальные реки текли невозмутимо; красные капли срывались с проводов, в карьере снег таял на камне, по трещинам и расселинам бежали красные ручьи, словно здесь подсекли кровеносные жилы земли и добывали эту земляную кровь; на буровых, похожих силуэтами на лагерные вышки, в устьях скважин проступала розовая пена, и газовые факелы над тундровыми пустошами становились алыми; бензопила на лесоповале разбрызгивала красные опилки, и лопата канавщика уходила в пустоту, где что-то липко хлюпало; под досками рухнувших бараков просыпались от полувекового сна клопы, и медведи, чьи предки лоснились когда-то от съеденной человечины, вновь приходили к отвалам шахт, с которых сбрасывали расстрелянных; человеческая кровь текла в проводах, в древесных стволах, в артериях зверей, в пустотах земли, словно мир стал одной кровоточащей опухолью, сплетением кровеносных сосудов, и только реки — реки текли невозмутимо.
Потом красный снег растаял до конца; в голове тонко звенело, словно лопнули от напряжения струны-капилляры. Мы вышли наружу.
У сторожа левая рука была искусственной, а необмятые, слишком гладкие ботинки выдавали, что и вместо ног протезы; морщины на его лице были глубокими и застарелыми, кожу уже нельзя было разгладить пальцами, чтобы побриться, она запеклась, как на месте ожога, и неровная седая щетина торчала из нее; худой, когда-то очень высокий — с него начиналась бы любая шеренга, выстроенная по росту, — человек этот был теперь согнут, и горб на его спине казался зачатком второй головы; глаза его были словно с другого лица, от другого тела: жизнь утомила плоть, но в глазах, в их покрасневших, изъязвленных белках, существовало нечто бессонное, помнящее, всегда бодрствующее, но ничего не ждущее.
Сторож — этот человек был им не по профессии и не в силу призвания; он был, если так можно выразиться, сторожем без глаголов: он не сторожил, не охранял, не исполнял обязанностей, положенных сторожу, но тем не менее им был — в ином смысле.
Когда кладбище еще было лагерным, его, инвалида, а в вольном прошлом — каменотеса и мастера гравировки по камню, приставили делать памятники; десятки лет он высекал имена, фамилии, звания и должности, словно был служителем загробного отдела кадров; он вел свой учет тем, кто посадил его и охранял, вел свою книгу жизни и смерти — кипу листков в картонной папке «дело №…», куда вписывал всех покойников.
Потом, когда город уже стал больше лагеря, окончился его четвертьвековой срок, но он остался; гравер говорил, что ему некуда возвращаться, что было правдой, но истинной причиной было другое: он сросся с кладбищем, привык стоять у его ворот, сгорбленный, оглохший от визга пил по камню; бывшие лагерные чины уходили на пенсию, и рано или поздно, с выстрелами почетного караула или без, с орденами на подушечках или без них, чинов опускали на веревках в неподатливую, каменистую землю, где на глубине метра лом ударялся в лед вечной мерзлоты; гравер брался за свой инструмент, выбивая на камне годы жизни.
В нем осталось не слишком много плоти, треть его тела состояла из металла, дерева и пластмассы — гравера ценили и лечили на совесть; та плоть, что уцелела, пропиталась пылью камня и абразивных кругов, каменная пыль была в его легких, он стал почти минералом, как те погибшие в соляных копях горняки, чьи тела, ставшие соляными образованиями, находили спустя десятилетия. Его и звали — Петр, камень, и он подлежал уже не физиологии, а петрографии — науке о горных породах. Всю жизнь больше знавшийся с камнем, чем с людьми, он изучил его медленную силу, силу давления, выгибающего горные пласты, силу подспудных копящихся напряжений; он обратил эту силу на себя, превозмог слабость ожидания и превзошел натугу терпения; он был просто кладбищенским каменотесом, жил при кладбище, и даже в глубокой старости буквы на камне ложились у него ровно и точно.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу



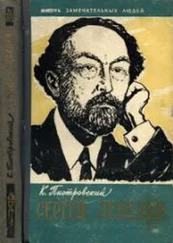

![Сергей Лукьяненко - Предел [litres]](/books/384448/sergej-lukyanenko-predel-litres-thumb.webp)