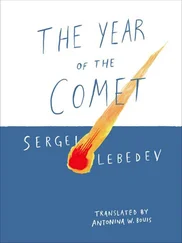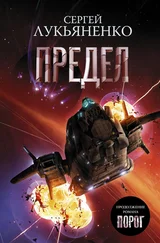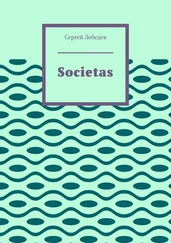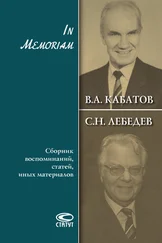Вертолет скоро улетел; я пошел из долины вниз, вниз, вниз, по камням, по руслам ручьев, и мне показалось, что теперь предстоит только спуск — по таким же высохшим руслам, хрусткому мху — вниз, вниз, вниз.
Городское кладбище, где были похоронены жена и сын Второго деда, оказалось просто куском земли среди тундры. Могилы, ограды, кресты, не осененные листвой, представали взгляду так, словно это больных в кроватях с высокими металлическими спинками вынесли под открытое небо; кладбище без деревьев, без кирпичной стены вокруг казалось каким-то шанхайчиком, повторяющим скученность гаражей и сараев. Причем было ощущение, что это сами покойники стали привычно обустраиваться на новом месте, и в результате вместо регулярного порядка кладбища возникло стиснутое скопище могил; как на нарах в бараке жмутся друг другу, греясь, как набиваются с узлами в общий вагон, пока не треснут ребра, — так же люди хоронили и сами ложились потом в землю.
На краю кладбища прилепилась церковка; красный ее кирпич, еще не успевший потемнеть, напоминал о нескольких особняках на въезде в город, где жило начальство комбината; если бы не купол, ее можно было бы принять за еще один такой особняк, да и строила их, наверное, одна бригада; церковь была понята — заказчиками, архитектором, строителями — как особняк Бога, а Бог — как авторитет федерального значения, к которому приходят за советом, за «разбором по понятиям»; было что-то несуразное в том, что для церкви не нашлось другого кирпича, что ее поставили, как сторожевую будку, не остановившись душой на точном и правильном месте, и потому при взгляде с любой точки кладбища церковь вжимали в землю, уничтожали своей мощью полосатые, в цвет арестантских роб, трубы комбината, извергающие вулканический дым, и на их фоне пропадали и крест, и золоченый купол.
В хаосе могил все-таки выделялся один участок, где могильные плиты были повыше, помассивней; среди низеньких, ушедших в топкую землю оград и проржавевших крестов стояли прямоугольники черного диабаза, который везли сюда по железной дороге; надписи на диабазе были золочеными. Здесь хоронили начальство; из овальных рамок смотрели мужчины в мундирах и пиджаках, полковники, главные инженеры, доктора технических наук — смотрели друг на друга, потому что плиты их могил были составлены в воображаемый круг, и ни одна траектория взгляда не могла выйти из него.
Низкие тучи принесли июньскую пургу, и черный от дыма труб снег падал на могилы, черный снег. Казалось, что с небес сеется сажа давнего пожарища; потом трубы изрыгнули дым цвета киновари, и снег стал темно-красным, он расплывался на лице, пятнал кладбищенские тропки; из сторожки выбежал человек — он схватил меня за руку и втащил под крышу; киноварный снег мог быть опасен, но мне это было неважно.
Тундра вокруг кладбища закраснела, будто из земли выступила разжиженная талой водой кровь; красная вода текла по рукам, по лицу; цвет кирпичной пыли, окалины с сизым оттенком пороховой копоти разбрызгался по пейзажу, окрасил горы и небо, и памятники кладбища стали островками в половодье этого цвета. Умом я понимал, что это просто случайность — снеговой заряд, попавший в дым из труб, напитавшийся им; но по тундре бежал ставший красным полярный заяц, бежал петлями, уходя от мнимой погони, от сумасшествия красного цвета, и получалось, что он несется по кругу; заяц спасался от красной пурги, не зная, какого цвета он сам, прыгал в сторону, сбивая со следа гонящихся, уходил низинами и снова выскакивал на гряды.
Наконец заяц изнемог и лег на землю в мшаной ложбинке; было видно только его уши. И я осознал, что бессмысленно бежать, как этот заяц, если видишь красную воду на своих руках; бессмысленно говорить, что это просто выбросы комбината, если наитием знаешь, о чем этот красный снег; ты окликнут, и ты можешь только вчувствоваться в собственное потрясение, пройти его путем — не пытаясь понять, разложить на составляющие, — нет, именно вжиться в потрясение до того предела, за которым цвет уже не имеет названия, снег не имеет названия, за которым останавливается внутренний оборот слов. Только тогда этот красный снег, заметающий кладбище, станет чем-то более глубоким, чем образ, чем метафора, — станет открывающейся дверью, ходом в пространство возрастающей судьбы; внезапно по памяти я повторил строки из «Гильгамеша», его ответ человеку-скорпиону:
В тоске моей плоти, в печали сердца,
В жару и в стужу, в темноте и во мраке,
Во вздохах и в плаче — вперед пойду я!
Теперь открой мне горные ворота.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу



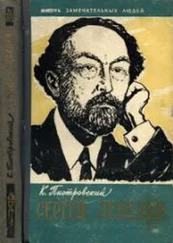

![Сергей Лукьяненко - Предел [litres]](/books/384448/sergej-lukyanenko-predel-litres-thumb.webp)