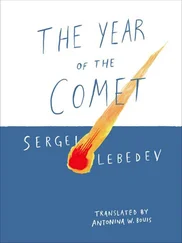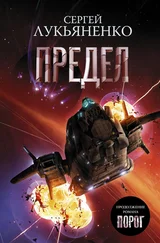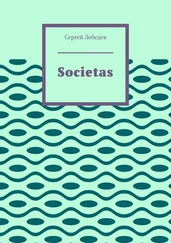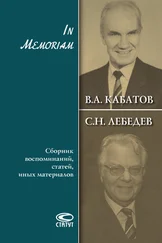Я спросил что-то еще о городе, о том, где искать переехавших, чем они сейчас живут; старуха сказала, чтобы я шел к карьеру — там я все пойму, и про переехавших, и про непереехавших; карьер означал для нее ответ, который снимает саму возможность вопроса.
Она, бывшая ткачиха, хранительница чужой памяти, прожившая жизнь наособицу от остальных, защищенная газетной вырезкой на стене, ответила мне так, будто бы я спросил ее, где все ее сверстники, где ее муж и дети — были ли они; где все ее поколение, что оно оставило после себя, где уцелевшие, последние, что могут они сказать; ответила — иди к карьеру — и закрыла дверь в дом, звякнула щеколдой.
Я снова пошел через город; я не искал специально дороги, а прогуливался, удерживая в голове общее направление, и понял то, что подмечал давно, только не находил слов описать: город был спланирован так, словно в нем должны были ходить строем и поворачивать только под прямым углом; один человек, один горожанин с иррегулярностью его маршрутов был, похоже, слишком мелок для взгляда планировщиков, у них не было такой разрешающей способности зрения, чтобы увидеть сквозь план человеческую фигуру; в результате город был рассечен заводами, цехами, и человек — просто человек — оказался в нем как бы на нелегальном положении.
Я увидел, как «зоны», огороженные забором с колючей проволокой, будь то настоящий лагерь или предприятие с их особым режимом, который означает много больше, чем охрану, пропуска и шлагбаум, вторгаются в общественное и частное пространство, коверкают его.
По сути, города как города не существует — есть территория, на которой выборочно допускаются частные интересы, открываются магазины, школы, детсады, но все это лишь необходимая уступка; не на человека тут все рассчитано, и потому городская местность напоминает прогрызенную древоточцем балку: тут все беззаконно, наискосок, через пролом, в обход, мимо охраны; тут срезать, тут отодвинуть доску, тут пройти свалкой; через пустырь, сквозь дыру в заборе, двором, двором, обочиной.
К карьеру нельзя было пройти просто так, он охранялся — в том числе и на случай таких, как я, праздно интересующихся, которые могут попасть под взрыв; но чем выше были заборы и больше охраны, тем многообразнее становились лазейки; мне даже не нужно было их искать — любое место, через которое часто пролезают, выдает себя, обнаруживает тропкой ли, к нему ведущей, обтертыми одеждой прутьями ограды, расстояние между которыми по недосмотру чуть шире, так что человек может протиснуться; или следами бесполезной обороны, приваренными полосами железа, наваленными бетонными балками, табличками «проход запрещен»; но и к лабиринту балок шла дорожка, пропадавшая внутри; взгляд тех, кто возводил эти препоны, опять-таки не обладал достаточной разрешающей способностью, и всегда находилась щель — ввернуться ужом, оборвать пуговицы, подтянуться на руках, но все-таки пролезть.
Я встретил бродяг, собирающих металл; стариков, идущих в тундру за грибами — дорога к самым грибным местам проходила через территорию карьера; рабочих, что-то спрятавших во время смены и теперь возвращающихся вынести; ребятню — эти шли играть в войну; парочку, ищущую место для свидания; все привычно протискивались, лезли, перебирались, тащили с собой кто корзины, кто выпивку; бродяги волокли катушку провода; их путем проник на карьер и я.
Я видел такие карьеры в Казахстане; но там было жарко, воздух над огромной ямой закипал, становился белесым, непрозрачным, и даже звук взрыва тонул и глох в нем. А здесь, на Севере, яма карьера открывалась вся сразу, опрокидывала в себя, в пятисотметровую глубину; карьер был зеркальным — относительно земной поверхности — отражением Вавилонской башни, ее слепком из пустоты; витки карьерной дороги, кругами спускавшейся с уступа на уступ, уходили на дно, столь глубокое и узкое по сравнению с верхним урезом карьерной чаши, что там лишь несколько часов в день видели солнце.
Серый цвет камня был похож на цвет осиного гнезда, в котором кроме основного тона серости есть еще какая-то специфическая прибавка, сообщающая взгляду, что в составе вещества, из которого сделано гнездо, помимо истертой древесины есть и элемент, исторгнутый из себя живым существом, — клейкая, тускло блестящая жидкость.
На скалах карьера лежала мельчайшая, образовавшаяся от взрывов каменная пыль, смоченная водой и так запекшаяся; эта пленка, в которой раздробленные зерна минералов слабо отражали солнечные лучи, и придавала карьеру такой цвет; пыль покрывала самосвалы, огромные «БелАЗы», экскаваторы с зубчатыми двустворчатыми ковшами; здесь, где не было земли, только крепкий камень, изощренный разум человека словно обнаруживал свою хищную природу; в образах техники вставала готовность грызть, крошить, врезаться, сминать, взрывать; этот ум — я вспомнил музей — был близок уму неандертальца, только на новом витке развития; ум, соединивший челюсти саблезубого тигра, шею жирафа, туловище мамонта, создавший гибрид — распахнувший пасть экскаватор; ум, движимый какой-то ненасытимой, безнадежной жаждой поглощать.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу



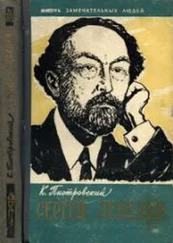

![Сергей Лукьяненко - Предел [litres]](/books/384448/sergej-lukyanenko-predel-litres-thumb.webp)