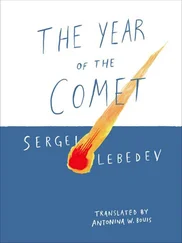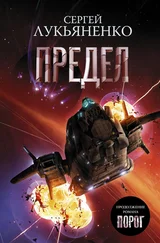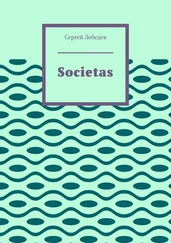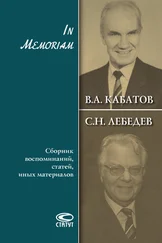Второй дед правильно все рассчитал, но недооценил мой испуг от намерения обрить меня; конечно, боязнь со временем стихла, но опаска осталась, и, пытаясь теперь вести себя иначе, но опять с каким-то двойным дном, он только насторожил меня и, по сути, сам дал начало моему становлению в чувстве и мысли.
Когда мы говорим о детской живости восприятия, нам кажется, что живость — это почти синоним резвости; что оно живое — в смысле переменчивое, увлекающееся, непостоянное. Но, может быть, детское восприятие именно живо, то есть наделено не даром тонких различений, а даром — игра в «горячо» и «холодно» в этом смысле не случайна — ощущать, что живо, а что нет в бытийном смысле; проходить за подмененный облик, чувствовать не нюансы, а саму природу человеческого отношения.
Вот это ухватывание природы отношения, присущее ребенку, узнавание живого и не-живого и связало меня со Вторым дедом неразрешимыми в то время узами.
Я ощущал, что он внутренне мертв, рассоединен с миром живых; не призрак, не дух — обстоятельный, телесный, долго живущий (а что ему сделается) мертвец; но при этом в его отношении ко мне была странная забота и, на свой манер, приязнь. Он — может, неосознанно — пытался воспитать меня, чтобы развязать какой-то узел в прошлом, разрешить некую драму, сделавшую его тем, кем он был. В настоящем же времени объяснений его поступкам, от способствования моему рождению до стрижки и выведения вшей керосином, по большому счету не существовало. Родные привыкли воспринимать текущие события как данность и не особо доискиваться их причин, но стоило посмотреть под другим углом — и вся история между Вторым дедом и мной оказывалась лишней, добавочной, как зоб или аппендикс, он вполне мог бы прожить, вообще никак со мной не соединяясь, и никакие обстоятельства не вынуждали его к сближению.
Я чувствовал, что жизни, живого в отношении Второго деда ко мне нет; но было нечто другое — безымянное; что — я смог понять лишь через два десятка лет.
Меня любила женщина; она призналась мне в своем чувстве и, не встретив взаимности, некоторое время чрезвычайно настойчиво добивалась ее: звонила ночью, писала письма от имени моей подруги, а потом прекратила, и я подумал, что страсть ее иссякла или она нашла кого-то другого.
Через несколько лет она погибла в катастрофе, ее не сразу опознали, мы, ее товарищи по работе, стали разыскивать ее; вместе с участковым вскрыли квартиру — вдруг что-то случилось в доме.
Увидев то, что было за дверью, я попросил, чтобы мои спутники вышли, вышел и милиционер.
На вешалке в прихожей висел мой шарф; он пропал из общей раздевалки нашего учреждения, ношенный уже, недорогой, и я не мог понять, кому он понадобился. На столе, на подоконниках лежали листы с пометками, сделанными моей рукой, черновики научных работ. Все, что можно как бы невзначай попросить, незаметно взять, она собрала в квартире: мои авторучки, зажигалку, пачку сигарет; диски с музыкой, брелок, книжку правил дорожного движения, календарик, пятьсот рублей с надорванным уголком, которые она одолжила, сказав, что на такси.
Из этих мелочей она создала фантом моего присутствия. Здесь она проживала свою настоящую жизнь — со мной, а в обычной жизни была только следящей тенью. И я понял вдруг, сколь велико было постоянное напряжение, которым она — из незначащих вещиц! — творила это бытие двойника.
И тут же я ощутил, что вокруг меня собирается мутный звенящий вихрь; все несбывшееся с ней, но питавшееся силой ее помраченных чувств обретает подобие существования, в котором выражается вся плотность ее надежд, боли, страданий; затем развоплощается — и в последнем стремлении быть, уже тронутое тлением, обезображенное, все же бросается ко мне, пытаясь вызвать ответ чувства и тем спастись, переродиться.
В этом вихре передо мной открылось ее внутреннее существование: свернутые в тугой хлыст желание, страсть, ревность. Там, внутри, была другая жизнь, в которой я был рабом этой женщины, тем более послушным, чем менее мы были близки на самом деле. Там коренились те силы, что высвободились после ее смерти; они были наделены зрением, не различавшим других людей, или вообще слепы, ослеплены при рождении ее безрассудным выбором, отрицавшим других мужчин. Безглазые гончие, они находили след одним чутьем, спешили исполнить свое назначение, передать мне породившую их страсть — и одновременно прилепиться к чему-нибудь в этом мире, мире живых.
Она убила себя при жизни, уничтожила целиком, чтобы жить только одним мной, и поэтому любовь ее была любовью мертвеца; неким почти потусторонним эквивалентом чувств, способным, однако, участвовать в сплетениях судьбы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу



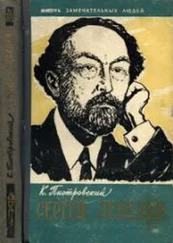

![Сергей Лукьяненко - Предел [litres]](/books/384448/sergej-lukyanenko-predel-litres-thumb.webp)