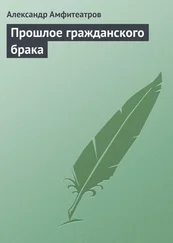Месяц спустя я увидел клошара на скамейке близ Дизенгоф-центра. Он мотал головой, выборматывая застоявшуюся, как плеврит, темную повесть. Уже без картонной скатерти-самобранки, он словно был поднят с морского дна и вывалян в прибрежном песке. Происшедшая перемена казалась разительной, старик сидел у подножия каких-то превращений, рассчитывая, как бы, не зацепившись, взойти по ступеням. Пожелание доброго утра и столь же дурацкое предложенье реванша было встречено громкой бранью по-польски. Из Тель-Авива он испарился.
Месть
Месть, говорит Цунетомо, состоит в том, чтобы свершить ее без промедлений. Не бойся в одиночку ворваться в дом к врагам, приди к ним с мечом, пусть они зарубят тебя, если найдут в себе смелость. В такой смерти нет ни отчаяния, ни позора, чистая радость, потому что месть неподсудна и сводится к моментальной реакции на оскорбление. Если же кто начнет прикидывать и взвешивать, насколько успешно сложится предприятие, он забудет запах отмщения и утонет в малодушии. Оскорбление связано с местью отношением причины и следствия… но поди ж ты, и это неверно. Месть самурая вообще не зависит от оскорбления, она не нуждается в нем и родится до него, как шепот предшествует губам, а листы кружатся в бездревесности. Месть растет из себя, из собственных оснований. Месть выражает силу, безумие и одержимость, ее бытие наделено законченной автономией, настоящий воин осуществляет акт мщения и в космической пустоте. А потом уж является преданность.
Преданность
В книге «Хагакурэ» Ямамото Цунетомо приводит немало случаев преданности. Вот один из них. В уже упомянутой провинциальной восточной столице, в квартире сотрудника ОБХСС высокого ранга обитал очень послушный слуга из деревни, незаметный человек порядком за сорок, таким я застал его, будучи невольным зрителем затухающей жизни, которой подробности мне открылись из двух-трех бесед в шоферской чайхане. Родители скончались рано; травоядно-блаженный характер отрезал отрока от мужских охотничьих промыслов, и он поступил в услужение к состоятельным родичам — так, меняя хозяев, и выполнял годами всю работу по дому, снискав репутацию безотказной души. В город его перенес на крыльях своих административных полетов девятый по счету дальний родственник-покровитель, здесь, в роскошной квартире, наипаче мечталось ему доказать, что наградой службе — оценка хозяином преданности и усердия, не баранья похлебка. Он стирал, убирал и готовил, нянчил детей и бережно, как младенца, пеленал свежевымытый господский автомобиль, ежедневно втаскивал на четвертый этаж ящики подношений с дефицитнейшей снедью, — так и текла его жизнь, пока в ней что-то не надорвалось. Первой забарахлила спина. Стало портиться зрение. Позже он ощутил главную неприятность в желудке. Оступился на лестнице, выронив банки с черной икрой и большую коробку с финской консервированной ветчиной, мусульмане употребляли ее, не сверяясь с Кораном. Ошибся, закупая на рынке овощи и лаваш. Не смог поднять наверх то, что было выгружено из багажника. Хозяева на него не сердились, потому что имели нового слугу на примете. Сам же он был раздавлен и мучился не болезнью — оборванной преданностью. Умирать его сослали в деревню.
Память и случай
Пересказ одного жестокого эпизода автор «Хагаку-рэ» завершает такими словами: «Поскольку Цунетомо не помнит всех обстоятельств этого случая, читатель должен расспросить о нем других». Продолжу историю. В 130 километрах от все той же восточной столицы, в общежитии нефтегазодобывающего управления «Ширваннефть», где я провел два года по университетскому распределению в город Али-Байрамлы, поздним вечером заспорили Аяз Имамвердиев и Вагиф Зейналов. Первый из них был бригадиром и членом парткома, второй — вышкомонтажником, отсидевшим лет десять в Сибири за участие в групповом ограблении склада с убийством сторожа. Обладая кулинарным талантом, он учил меня правильно жарить картошку, что невозможно забыть, как не забыл я и его оппонента, незлобивого человека, который приходил с заседания пьяным и, запив водку кефиром, блевал в уборной и коридоре. Ссора вышла из-за душа — кто раньше помоется. Обычно, опережая других, в кабинку заталкивался малахольный гигант по прозванию Хейван (Животное), обосновывавший свое первенство криком «Мэн фэхлэ!» («Я рабочий!»), что в рабочем же общежитии звучало форменной тавтологией, но на этот раз ретировался и он, ибо хмельной бригадир и член парткома обещал порезать любого, кто встанет у него на пути.
Читать дальше