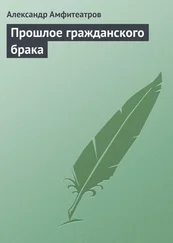Классическое телесное творчество, боди-арт в его венском, наиболее резком изводе, а именно с ним тягается и конфликтует Брюс Лауден, было последним западным искусством, связанным с искупительной жертвой, — другими словами, оно было последней радикально-христианской (то самое подражание Христу) практикой жизнесмертия. Возникший в начале 60-х Венский театр оргийно-мистериального действия рассчитывал, что зритель, посетивший его представления (трупы животных, настоящие шрамы артистов, атака на психику), выдержит шок, обзаведется нисхождением в темноту и, приобретя свою смерть, эту, по Игорю Терентьеву, «единственную новость, которая не может быть рассказана очевидцем», воскреснет для катарсически очищенного бытия. На излете того же десятилетия Рудольф Шварц-коглер, главный этих перформансов соучастник, оскопившись, самоубился. Акция протеста, ибо имел место протест, порывала с четко обозначившимся к тому времени двурушническим поведением соратников, как выяснилось, напуганных собственными манифестами, убоявшихся пустынных областей Фулы, где не затягивались раны и не сворачивалась пролитая кровь. Сподвижники отработали приемы на тушах со скотобойни, залечили неосмотрительно нанесенные ссадины и, устроившись с минимальным ущербом, пронесли себя сквозь года. Революционеру и экстремисту трудно смириться, что даже родственные натуры собираются жить, эта потребность не кажется ему обязательной. Отвращение к половинчатому окружению не было, однако, центральною темой самоубийцы, искавшего роли Спасителя, дабы, во-первых, взять на себя грехи слабых, не способных решиться на предельность мечты о сожигающем все барьеры искусстве, а во-вторых, преодолеть гадкое состояние этих искусств. В ту эпоху они не угасли, держались, но сквозь красоту дворцовых мозаик и фресок проступали уже симпатические письмена будущего позора, так что нужна была жертва во искупление; тогда же Doors сняли маленький фильм, в котором Джим Моррисон, расстрелянный и распятый Неизвестный солдат, он же калифорнийский Адонис и Гиацинт, окропляет кровью цветы, и они становятся краше.
Действия этого типа покоятся на незыблемом базисе религиозных, этических предпосылок — вера в культ, ритуал, священную жертву и непосредственно научающий, чрез самое зрелище обагренного тела, опыт артиста-мученика. Попросту если сказать, еще несколько десятилетий назад, вот ведь что потрясает, непросаженным оставался золотой фонд западного исповедания и, что бы ни провозглашала культура, рубцы на ее тканях не были знаком разрыва. Брюс Лауден, полуфантомный Осирис, малой скоростью по частям продающий себя галерейщикам, надеется абсурдною прихотью расчленений выразить охлажденность времен, задувших последнюю головню в костpax искупления, отменивших веру в пример. Клин вышибается клином, наступление новой эпохи экспонируется не отвлеченно-идеологически, но, для вящей убедительности, на собственном теле. Ритуал заменен монотонным обычаем, исчезновение общезначимой жертвы и несбыточность явленного городу и миру образца изрекаются через неизвестно к кому обращенный жертвенно-нелепый пример. Лауден, отрицая за собой желания, хочет быть медиумом новой судьбы художника и человека, их убывающей иллюстрацией. По отношению к старой судьбе эта судьба пародийна. На перформансной карте язык Лаудена соответствует оскопленному пенису самоубийцы, оба органа выполняют преимущественно экскрементальную функцию: первый производит дурные слова, второй чаще мочится, чем осеменяет. С однократным же актом самозаклания аукается разнесенная по годам, совпадающая с течением жизни череда автокалечений. Посредством пародии, уложенной в прихоть о прихоти, эпохи парадоксально уравниваются и, обнявшись, тонут в тумане дегероизации. Так воспринимает историю новый человек, опускаясь в свой жалкий удел.
Но осквернение «понятно лишь на почве острого ощущения того, что оскверняется» (Лев Карсавин), да, я опять привел эти слова. Сколько бы ни пародировал Лауден старый порядок, стремясь быть соматически правильной мембраною современности, неотступная дума его — о прошлом, о жертве. Брюс Лауден — из жиснесмертного боди-арта, из отвергнутой им акции искупления, фанатически, несмотря на невесть каким пальцем отстуканные обоснования прихоти, перенесенной в нынешний день. Он демонстрирует никем не затребованный, мерзкий для большинства пример черт-те чего и находит в том свою миссию, не слишком заботясь о том, отвечает ли она даже самым размытым канонам искусства («Искусство? Я что-то слышал об этой исследовательской практике, иногда она бывает занятной»).
Читать дальше