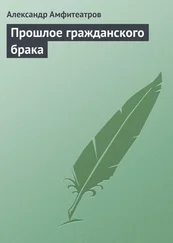Макс Нордау принимает по будням в твердом прямоугольнике склепа. Приплюснутый домик, освещаемый свечками, земляной пол усеян цветами, на ораторской кафедре — сафьяновый том «Вырождения» с диагнозами, парадоксами и свирепыми медицинскими прописями.
Я хожу по лабиринту прапамяти, листая семейный альбом. Ничуть не метафора, под скромной плитой, в обществе избранных, — мой двоюродный прадед, Шмарьягу Левин, в его честь улицы и Кфар-Шмарьягу, деревня богатых. Странное чувство, будто воспользовался тайным лазом в заказанный душевно-политический Сион, узкой лазейкой, которую прадед, усмехнувшись, оставил для непричастного внука, прожег во времени дупло. Кровнородственность значит, да, значит, она дает иначе ощутить семейное поприще сионизма, еще понять бы, зачем мне это ощущение. Передо мной Левин из фамильных преданий, из его ностальгических, о детстве и юности, сочинений, пестрящих лицами моей прямой родни, наконец, из энциклопедий, откуда и позаимствую, чтоб не нарушить стройность и канву. Раввин, кенигсбергский доктор философии, журнальный литератор на иврите и на идиш, проповедник, на Шестом сионистском конгрессе надсаживавший голос против искушения Угандой, депутат Первой думы от евреев и литовцев, после ее роспуска подписавший мятежное воззвание, завсегдатай Берлина, вполне американец за годы жизни в США, англоязычный мемуарист, инициатор, член правлений, учредитель, проч., так до скончания дней своих, до кладбища в Тель-Авиве, среди таких же, как он, формовщиков болезненно выпрямляемой нации, зубров жизнестроительства, создателей этого города.
Кто скажет, на каком расстоянии от них стоит сегодня этот город, эта страна? Нет устройства измерить, определить, оценить, да и ни к чему. Всегда случается то, что должно было случиться. Почему чукчи не покидают свой ужасный край? Ведь они везде жили бы лучше по сравнению с их нынешней жизнью. Они не могут этого сделать. Все, что возможно, происходит, но возможно только то, что происходит.
Эта история произошла несколько лет назад. Бурая кровь, над обузданием которой склонились нанятые доктора медицины, наконец, успокоенная, запеклась. Стала остекленевшей музейною лужицей, побочным продуктом развернутого напоказ действия. Хроникальная сторона такова. Брюс Лауден, зовущийся художником, отрезал себе язык (поддавшись его уговорам, операцию согласились провести два врача), снял акцию на пленку и дождался дня, когда отсеченный орган выставили в лондонской галерее. За десять предыдущих лет Лауден отрезал одиннадцать других ненужных деталей — удалению подверглись выборочные пальцы на руках и ногах, а также левое ухо. Объекты зафиксированы, проданы и поступили в распоряжение коллекционеров. Вместе с языком число потерь сакрализовалось до дюжины. Хирургический ножик, обрисовав остроту замысла, оцарапал и толкователей, и если иным в анестезированном движении скальпеля сверкнул индивидуальный бедлам, то другие узрели еще один, в бесконечном ряду, знак разложенья искусств, а то даже более общего запустения. Вот версии и доводы, вычитанные в специальных изданиях.
Лауден не хочет вести разговор под деспотическим небом порядка; коли так, его жест входит в традицию, где подвергнутый пыткам философ выплевывает свой перекушенный зубами язык в круглую морду тирана. Художник отказывается от празднословии змеящейся во рту речи, от половины слуховых (левое ухо) и немалого числа осязательных (пальцы) способов ощупать реальность. Демонстративно взятая им на себя немота есть ораторский вызов, адресованный не чьему-то лицу, не потной роже властителя, даже не властному лику универсальных начал, но безличинности власти как таковой. Он подражает Христу — Христу и Предтече искусства XX века, отрезавшему себе в публичном доме ухо, чтобы тупо не удающиеся обряды освобождения преступили черту закабаления. Повторяя легендарный поступок, растягивая его до границ отпущенной жизни и превращая единичность в обычай, он, как истинно верующий, не готов насытиться ранами и без устали тянется к эталону. Эти стихи невозмутимы, их могла бы написать каменная стена, сказал один русский поэт о другом. Похоже, что Брюс помышляет о той же внечеловеческой неподотчетности, репродуцируя свою невозмутимость с упорством, с каким ветшающая стена могла бы ронять из себя камень за камнем, — сколько еще удастся ей продержаться?
Затем за подписью Лаудена поступили два документа, в которых объяснялись причины действий, и чужие версии смолкли. Первый текст с нарочитой стилистической заунывностью рассказывал об окончании изобразительных искусств и о том, что финал должен быть проиллюстрирован самоумаляемым телом, которое в противовес беккетовскому говорливому прототипу избавлено и от устного растекания. Чтобы придумать этот унизанный дежурными цитатами коллаж, необязательно было над собой надругаться; кое-что говорила разве ссылка на Александра Кожева — он был первым, кто диагностировал так называемую «смерть человека» и отнесся к ней холодно, отказавшись стенать на поминках. Вторая декларация, отвергавшая первую, идейным посылом Брюсовых акций назвала прихоть. По мнению Лаудена, уже лет за десять до календарного исхода столетия художник растерял все, что со времен романтизма считалось невычитаемым достоянием его ремесла, — призвание, идеологию, внимание общества и, конечно, искусство. В осадке иллюзия тела и прихоть, толкуемая в качестве безосновательной выходки. Прихоть пуста и неинтересна даже ее исполнителю — у художника без искусства вообще нет никаких интересов. Уничтожал себя Лауден потому, что ему этого якобы захотелось, но хотение было выпотрошенным, нулевым, в нем искоренилось желание. Только бесцельная мания, от которой он в любую минуту готов откреститься; так, пишет Лауден, могло бы хотеть чучело крокодила или мраморная, с ренессансных фонтанов, рептилия. Он не знает и не намерен узнать, что привело его к скальпелю. В отсутствие желаний не может быть исследования, понимания, обращенности к самопознанию. Это и есть хирургически голая прихоть, прощальное достояние художника.
Читать дальше