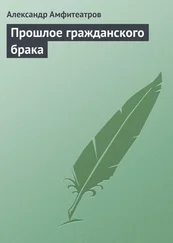Литературным разборам антифонно созвучен голос признаний, трогательных своим простым бесстыдством. Стандартное для романов и дневников, беззаконное в аналитическом тексте, исповедальное живосечение предстает спасительным вивисекторским вмешательством в филологию, которая, дезертировав из собеседований с людьми и собой, довела себя до могилы. Перед зеркалом, отразившим одутловатые формы, он рассек свою плоть академика; отравленный Чезаре Борджиа, чтобы вышел яд, лег в свежайше разъятую, с парными внутренностями, тушу осла. Две цели преследовал Роберто Калассо: излечиться от несладившейся жизни и найти — чего бы ни стоило это, хоть окончательной порчи здоровья, — способ восстановления знания, давно не оплачиваемого кровью. С первой задачей он справился, вторая, однако, тоже решается лишь в индивидуальном порядке, ибо самозаклание не может быть рекомендовано в качестве руководства к массовым действиям, а когда утверждается чьей-то высшею властью, то обычно замкнуто сектой крайних отверженцев и даже в этих границах подвержено многим напастям, сбоям, изъянам. Книга Калассо — частная попытка филолога, оставаясь в цехе своего знания, вырваться за черту его поражения, но если учесть, что универсального метода совладать с этим положением нет, частный опыт автора «Ртути»… я затрудняюсь правильно завершить эту казенную фразу и сержусь на Калассо, а надо бы винить себя.
Он рассказал о детстве и, неприязненно, о студенческой юности, о периодической тяжбе с национальным характером и неприметных убежищах городской культуры, о злачной топографии Рима, Флоренции, средиземно-портовой Генуи, о неврозе укутывания горла как соматическом источнике коллекции платков и шарфов, подробно, не забыв гостиничные адреса, цвет белья и меняющиеся постельные привычки, об умиротворенных и уничтожающих любовях, одна из них, почти повторившая историю Павезе, едва не заставила его наглотаться снотворного, а записка уже лежала на ночном отельном столике, откуда автор перенес ее в конверт и после в нетронутом состоянии — не изменилось даже имя вдохновительницы чуть было не случившегося происшествия — на страницы книги. Специальный отдел ее составляют, во-первых, обращения к руководителям крайних движений, послания тем более трудные, признающие правду чужого порыва, что с некоторыми из революционных вождей-невидимок, ранее заметных в кампусах, киношколах, рок-клубах и дискуссионных ристалищах, Калассо был неплохо знаком, а во-вторых, гневливые, ядовитые письма к столпам литературно-философских ортодоксии и ересей. Тоже известные ему не заглазно, иерархи и ясновельможные апостаты обвиняются в забвении человеческой перспективы теорий, чему свидетельством их ледяные методики и корыстные препарации. Взамен обосновывается «неотчужденное чтение», чудотворная практика, посредством которой исследователь должен высвободить сосредоточенный в тканях текста свет утешения, соболезнования, сплачивающего участия, чтобы текст, став «полезным», послужил человеку «опорой», вошел в круг «солидарного существования» и напитал его значениями, обогатившимися от истолкований. Закавыченные слова принадлежат Калассо и обозначают ключевые элементы провозглашенной им сопричастности, устанавливающейся, благодаря связующим стараниям филолога, между произведением как общностью или церковью смыслов и общностью, собором людей. Свои построения автор назвал магическим утилитаризмом. Ни у литературы, ни у литературной теории нет иной задачи, кроме как быть полезными в борьбе с отчуждением, уготованным человеку условиями его бытия, и с несправедливостью, окружающей его из-за дурных социальных условий.
Бесспорно важнейшая проза Калассо, «Ртуть и песок», вызвала недолгий, замешенный на недоумении переполох и была заслонена двумя другими, об африканской и греческой мифологиях, сочиненьями автора, развивающими постулаты «Ртути» и тоже возросшими в библиотечном фамильном раю. Мифы, утверждает он, соответствуют главной и единственной цели анализа — выделению из текста эликсира солидарности. Эту растворенную в акте чтения духовную и как будто метафорическую операцию Калассо описывает в терминах физических процессов, словно всерьез собирается доказать, что в прожилках и волокнах текста накапливается, требуя выхода, особая, трансформирующая бытие материя или энергия, высвобождению которой обязан посвятить себя гуманитарий; именно это он и доказывает, склоняясь попутно к заклинательной магии и честно оправдывая титул концепции. Даруемые мифологией солидарность и соболезнование обусловлены тем, что мифы предстательствуют за нераспыленный порядок, в них по сей день скрыто месторождение единящей, враждебной отчуждению субстанции, и это месторождение ждет разработки. Соболезнование же есть следствие чудовищного содержания мифов, ибо, по мысли Калассо, человека могут примирить с жизнью только ужасные истории. Страшные рассказы любят дети, то есть малые люди, близкородственные подпочвенному слою видений, их сознание пуповиной первообразных снов связано с довременной тьмою и не одеревенело от анестезирующих уколов рассудка. Совместное переживание страшных историй, разыгранных в театральной мистерии, было условием цельности афинского полиса и предпосылкой очищающих коллективных эмоций, прозванных катарсическими (катарсис — приготовительная стадия утешения). То же было во множестве прочих культур, осязавших мрак мифологий, лопающихся от насилия, жутких деяний, кощунств и лишь потому заряженных обетованием милости. Но чтобы миф стал светом и милостью, его нужно очистить от фабульного бешенства, переключив отрицательную поэзию в сферу блага, — так поворачивают русло реки.
Читать дальше