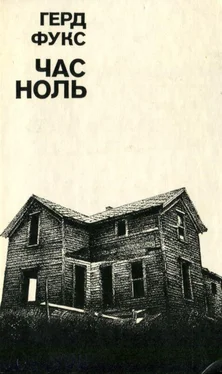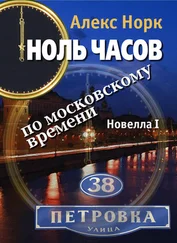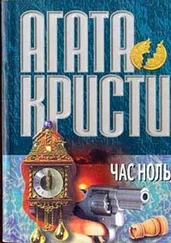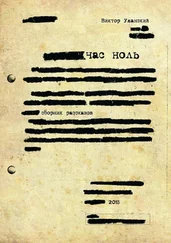Но нашлись люди, которые все поняли. Вскоре после того, как могила священника Файта преобразилась столь неожиданным образом, два пожилых и весьма уважаемых человека, директор школы Тейс и богатый крестьянин Блазиус, попросили после торжественной мессы провести их к дому Леи Грунд. Они долго жали ей руку.
И их становилось с каждым днем больше, тех, кто все понимал. Тут уж не заставил себя дожидаться и патер Окс. Леа отнюдь не была поражена этим визитом, а Окс прекрасно понимал, что ему предстоит. Вечно одно и то же, если у кого-то в роду уже были лица духовного звания. По собственному опыту он знал, насколько это снижает необходимое почтение. А в случае с Леей Грунд все было особенно скверным.
— При всем уважении к памяти столь выдающегося деятеля церкви, каким был Якоб Файт, возможно ли совместить подобную роскошь с той мерой приличия, каковой подобает придерживаться именно на кладбище?
— А насколько приличным кажется вам то, что они сделали с Юлиусом Грундом?
Окс обливался потом. Больше он придумать ничего не мог. Было ясно, что его прислал трирский епископ. Леа Грунд предложила ему немедленно оставить ее в покое. Окс тут же убрался. Трусливая, заячья душонка.
Совершенно иной характер носил визит заместителя директора школы Мундта.
— Мы не позволим водить себя за нос, — сказал Мундт. — Мы прекрасно поняли, что вы имеете в виду. Это политическая демонстрация.
Когда она вырывала заросли плюща на могиле Якоба Файта, она была ближе к миру мертвых, чем живых.
Однако нашла в себе силы еще раз собрать все, что росло в ее небольшом саду и что пощадили первые морозы. Давно уже не все цветы на могиле Якоба Файта были только от нее. Но вскоре должен выпасть первый снег, и саженцы плюща, которые она собиралась высадить весной, уже пустили в цветочных ящиках позади дома первые корешки.
Между Хауптом и летчиком существовал негласный уговор, что тому лучше не показываться у Леи Грунд. Может, его разозлил этот не высказанный вслух отказ от дома, а может, он просто хотел доказать что-то Хаупту (летчик был не очень способным учеником, ему так и не удалось освоить предлоги английского языка), но, как бы то ни было, в один прекрасный день он неожиданно появился на кухне. Хаупт в изумлении уставился на него. Ситуация летчика позабавила. В этой простой крестьянской кухне, выпрямившись перед Леей Грунд, он производил впечатление сутенера.
— Ваш племянник наверняка рассказывал вам обо мне, — начал летчик.
— О нет, он поостерегся, — ответила Леа. — Зато другие много рассказывали мне о вас.
— Надеюсь, только хорошее, — подхватил летчик с невозмутимой галантностью.
— Вы спекулянт, вот что мне рассказывали, — отрезала Леа Грунд.
— А что вы на это скажете? — поинтересовался летчик у Хаупта.
— Если только Вернер скажет, что спекулянты, сутенеры, шлюхи и алкоголики — его друзья, пусть ищет себе другое пристанище! — крикнула Леа Грунд, дрожа от гнева, этот маленький архангел во плоти.
— Похоже, у меня есть для вас кое-что подходящее, освобождаются две комнаты, — сказал доктор Вайден. — Туберкулез легких.
Прежде чем разбинтовать ногу Хаупта, Вайден отворил настежь все окна. Три осколка он уже извлек за эти дни из гноя.
Вайден, огромная махина весом почти в сто килограммов, с негнущейся ногой еще со времен первой мировой войны и огромной блестящей лысиной, изборожденной шрамами, пребывал после того, как коммунист Кранц снял его с грузовика, неизменно в хорошем настроении.
— Не могу ли я сделать для вас еще что-нибудь? Говорите, не стесняйтесь, пока меня не забрали. Не нужно ли фамильное серебро? Ковры? Мебель? Или моя жена?
Лицо Хаупта исказила гримаса. От боли он не мог говорить. Этот коммунист не только позволил тогда доктору слезть с грузовика, но приказал послать уведомление о совершенном его женой нарушении закона — о грабеже — не в полицию, а ей самой. Дело в том, что американцы сняли часовых у старого склада вермахта внизу на выезде из деревни, и слух об этом распространился по округе с быстротой молнии. Уже издалека было видно, как бежали к складу люди с сумками и рюкзаками, кое-кто даже с ручными тележками. У развороченных ворот тут же началась свалка, небезопасная для жизни. Внутри перед горами консервов, сухарей, копченых колбас и бутылок со шнапсом бесновалась хватающая все подряд толпа.
Кранц, Эрвин Моль, Улли и еще несколько человек, которых Кранц снабдил белыми нарукавными повязками, объявив их вспомогательными силами полиции («Повязки — это очень важно», — объяснил в свое время Кранц лейтенанту Уорбергу), пробились сквозь ревущую толпу и начали оттеснять ее от полок. Вокруг все орали, перебивая друг друга. От входа каждый стремился протиснуться вперед. А первые ряды уже начали отступать. Кранц, Улли и Эрвин Моль вытряхивали все, что жители успели запихнуть в сумки и рюкзаки. Этот склад давал деревне возможность нормально существовать еще несколько недель. Медленно, но неуклонно теснили они толпу к выходу. Критический момент настал, когда они принялись закрывать ворота. Упираясь в створки, они сдвигали их сантиметр за сантиметром, пока Улли наконец не удалось задвинуть перекладину в скобы.
Читать дальше