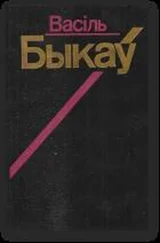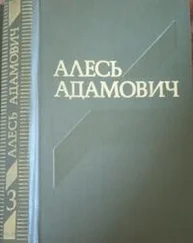Объединенные в настоящей книжке «Подвига» под одним заголовком два рассказа о войне, о боях летом 42-го года на дальних подступах к Сталинграду, были отмечены добротной и честной «окопной» правдой, но в самих названиях содержали примечательное обобщение: «День, вытеснивший жизнь» и «День седьмой» — первый день творения фронтовой жизни и последний день, завершивший формирование бойца.
Не думаю, что в замысле было написать некую хронику: день второй, день третий и т. д. Здесь видится лишь внятный каждому намек на библейскую легенду. Так, ведь и в «Покушении на миражи» предстают разные «дни» человеческой истории: Древний Рим, судьба Христа, возрожденческая утопия Кампанеллы, возникновение марксистского материализма, сегодняшний день.
Да и другие рассказы, опубликованные в «Новом мире», построены по сходному принципу: четыре дня страны, ее исторические болевые точки с двадцать девятого по сорок второй год.
Очевидно, автор пробовал разные принципы создания автобиографической книги, все рассказы которой ведутся от имени прозрачно «зашифрованного» героя — Владимира Тенкова. Но уже определился, отстоялся сам принцип изображения: обратиться к болевым точкам, пришедшимся на жизнь его поколения.
«Я родился в воспаленное время», — произнес автор в рассказе «Пара гнедых». Это время сделало из него зоркого и честного художника, автора повестей «Чудотворная», «Суд», «Три мешка сорной пшеницы», «Расплата».
Много разного читали мы в последнее время о событиях 37-го года, о безвинных жертвах и нелепых обвинениях. Но вот совершенно неожиданный поворот — в рассказе «Параня». Поселковая дурочка в поисках защиты от уличных обидчиков называла своим женихом-хранителем то милиционера, то местного хулигана — грозу поселка, а однажды под влиянием несшихся из репродукторов бесчисленных здравиц объявила своим женихом родного и любимого вождя… Все бы ничего, но в следующем повороте своей свихнутой мысли она, наслушавшись все того же радио, стала видеть в поселковых жителях вредителей и шпионов, замышляющих «свирженье-покушенье», и, вдруг вскинувшись, указывала то на случайного встречного, то на продавщицу за прилавком, в руках которой увидела хлебный нож. И всех этих людей вскорости арестовывали. Отчего же? Да оттого, что в тогдашней круговерти репрессий годен был любой повод. А тут возникла видимость логики. Разумеется, поселковая дурочка для органов не авторитет, но ведь после того, как она указывала на кого-нибудь, народная молва, естественно, начинала склонять его имя, а уж на голос масс просто преступно не реагировать.
«Все, что пропущено через народ, то свято! Народ не ошибается!» Какой поразительный образ-символ сумасшедшей логики репрессий!
И уже по одному этому рассказу можно уловить ценнейшую черту всего цикла: честно воссоздавая время, Тендряков искал общие духовно-нравственные законы, проверял реальной жизнью нравственные максимы.
Трудно сказать, почему повесть «Чистые воды Китежа» не решились опубликовать сразу после ее создания, в конце семидесятых годов. То ли усмотрели в ней непозволительную «надсмешку» над механизмом газетной кампании, над приниженностью и чинопочитанием, так распространившимися в прессе того времени. То ли показалась кощунственной мысль о своеобразной коррозии духовного настроя масс и падения интереса к общественным делам: в гротесково заостренной повести народ вскипает благородным гневом после критической публикации в газете и снова «безмолвствует», едва газета дала задний ход.
Но и сегодня очень даже ко времени пришелся негромкий ироничный голос Тендрякова: «Кто сказал, что славный город Китеж канул в Лету? Он живет и строится, выполняет и перевыполняет планы, берет высокие обязательства, выпускает газету, сидит по вечерам перед экранами телевизоров, неустанно повышает свой культурный уровень…»
Трудно движется перестройка, и Тендряков прозорливо увидел многие из тех трудностей, которые сегодня тормозят ее ход.
У каждого серьезного писателя есть заветное слово, своего рода волшебный ключик, помогающий проникнуть в глубины художнической мысли. Для Тендрякова это слово — справедливость.
Острее всего авторская мысль пытается познать, как же добиться реального, практического осуществления общих принципов справедливости, как одолеть три главных препятствия: догматизм, коварную спекуляцию высокими истинами, губительную прямолинейность. Всегда писатель ставит нас перед этим расщепом между чаемым и сущим, отсюда и обжигающий драматизм всех его произведений.
Читать дальше
![Василь Быков «Подвиг», 1989 № 05 [Антология] обложка книги](/books/79887/vasil-bykov-podvig-1989-05-antologiya-cover.webp)