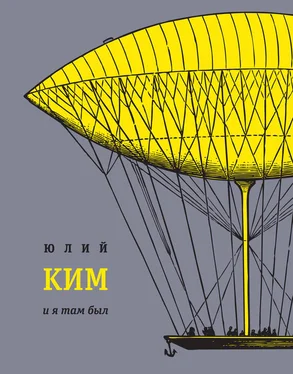Проза у него хорошая. Но у меня она с ним не сливается. У Булата – сливается. У Фазиля, у Андрея Битова, у Юры Коваля – их проза прямо вытекает из их речи. А у него разговор был другой. Правда, есть в его прозе одно, лично его, качество: солнечность, радостное состояние души. Так-то язык известный, питерская неформальная проза 60-х годов, этот ихний синтаксис чудной, лексика советская навыворот, у Марамзина еще и погуще – но не солнечно. А у Бориса Борисовича – солнечно. И вдобавок еще это языческое, что ли, восприятие естественной человеческой жизни, что и наполняет его прозу светлой эпической печалью и личной любовью. И в своей известной новелле и сержанта он любит, и фрау, которую любимый сержант застрелил, любит, и как-то неизбежно из этой любви выходит, чтобы непременно застрелил, а потом всю жизнь мучался, тоже непременно… Что-то я съезжаю на эту прозу… интонация затягивает.
У него было множество любимых людей. И в Ленинграде, и в Москве, и черт-те где. На свои застолья он созывал только самых близких – и то было битком, под сотню народу, и с каждым он был близок отдельно. Ну да, да, и радушный, и широкий – но не этаким общим скользом по всем, а с единственным вниманием к каждому. Водочку поднимал бережно и, поочередно чокаясь, приговаривал «здравствуйте» – то есть чокнуться было для него то же, что поздороваться. А дальше – только веселел, точнее – воодушевлялся, хмельным не помню его ни разу. Не забуду, как он пришел раз, воодушевленный, и тут же влюбился. Это было с ним как обвал. Он пришел и сразу отличил эту женщину, сразу проникся ее особым излучением – и все: весь вечер, разговаривая, выпивая и смеясь, он сидел рядом с ней и не то что ухаживал – он сидел и откровенно любовался, с шутливым и вместе с тем подлинным восторгом, не замечая, что и она, и все вокруг ужасно смущены, так как здесь же находился ее человек, также бывший в сильном замешательстве от такого неожиданного и прямого обожания… Борисычу деликатно объяснили… Он как-то полушутя растерялся. «Да-а?» – протянул он, улыбаясь и сожалея.
А другой раз видел я, как он расстраивался. Отчего – не знаю, что-то не клеилось, не в делах – в душе. Немоглось как-то.
И вот он ходит и восклицает время от времени, на все лады:
– У всех есть все – у меня нет ничего.
У всех есть – все! У меня нет – ничего!
У всех – есть все, у меня – нет ничего!.. Где справедливость?
И в самом деле…
Главной его мыслью, страстью, постоянной головной болью была Россия. Он о ней думал всегда, даже когда думал совсем не о ней. Это состояние я знаю: когда, бывало, приходит в голову и целиком захватывает тебя какой-нибудь замысел – пьесы или поэмы – и тогда так и валишь в сюжет все что ни попадется на глаза, все к нему примеряешь и прикидываешь. И вся его проза – о ней, о России, и все его знакомства – с ней, и публицистика с китаистикой – туда же. Хотя диссидентом он не был. Это дело было ему не по натуре. Конечно, не дай бог занесло бы его нечистой силой за решетку – он прошел бы все круги достойнейше. Но изо дня в день заниматься правозащитной деятельностью – это было не по нем. Но сочувствовал – всегда и всей душой, и подробно расспрашивал, ему необходимо было – знать. Еще бы. Дело-то было – совестное. И непосредственно российское – стало быть и его. Тем и отличался он от великого, к сожалению, множества народу, осуждавшего, презиравшего и прямо ненавидевшего наших немногих диссидентов – за то, что они провоцируют власти на закручиванье гаек. Простая мысль о том, что власти провоцируют всякого честного человека на сопротивление, не всем приходила в голову. Бранить диссидентов было комфортнее…
Правда, и другая крайняя мысль – всякий, кто не диссидент, тот трус и конформист – представляется мне неверной. Все-таки каждый осуществляется в жизни по-своему. При этом сопротивление режиму – для одного первейшее условие, для другого – существенное, но не главное, для третьего – вообще не условие, а единственная цель. Задача жизни у Бориса Борисовича была другая. И в главной своей душевной работе он был свободен всегда.
Впрочем, за ним числится три вполне крамольных поступка: он протестовал письмом против вторжения в Чехословакию, участвовал в неформальном альманахе «Метрополь» повестью «Дубленка», написал и отправил на Запад целый очерк о русских путях («Этот спорный русский опыт») – и я живо помню, как обсуждали мы с ним: подписывать открыто или псевдонимом? Разумеется, я настаивал на псевдониме: не его это было дело – садиться. Публиковаться – да, садиться – нет. С моими ли доводами, с другими ли – но он согласился. Даже если он и боялся – то уж точно не за себя.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу