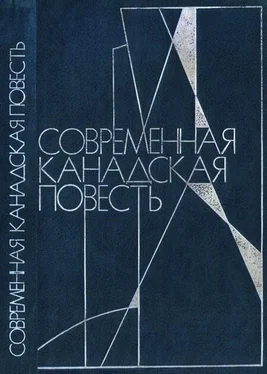В конце концов дед отвечал, что он «прямо-таки почернел от злости», что он и в самом деле терпеть не может морковного пюре, но, поскольку у него не осталось ни одного зуба, он ничего, кроме этой гадости, есть не может, а к тому же все обитающие в доме особы женского пола, и бабушка, и эти ее «треклятые девки», истязают его, «как кошки мыша».
— Кушай свое пюре, Онезимон, — повелевала бабушка, нацелив палец в деда, — а ты, Полина, не подзуживай его, он только этого и ждет, упрямец этакий…
— Пойдем, Полина, нечего нам тут делать в этим бабьем…
Но перед тем, как пройти вслед за дедом в его мастерскую, я спешила заглянуть в запретную для меня часть дома, о которой бабушка выражалась так: «Это апартаменты жениха и невесты, а также покои бедного дяди Себастьяна. Обрученных и обреченных не следует тревожить. Поиграла бы ты лучше в кубики, Полина, вместо того чтобы совать нос куда не следует…» Слушая краем уха эти вялые увещевания, я на карачках подползала к застекленной двери с намалеванным на ней букетом скромных цветов, прямо под которым, в соседней комнате, видимые несколько смутно, как бы сквозь дымку, с притворной стыдливостью обнимались тетя Алиса и ее жених Бонифаций. В те часы, когда Бонифаций не предавался созерцанию прелестей сухопарой Алисы, уже воссевшей на царственный престол, с которого она, разумеется, не собиралась спускаться, он меланхолично разглядывал свои лежавшие на ковре ступни, похожие на побитых собак, широкие и плоские ступни, лишенные малейших признаков одухотворенности, хотя самому Бонифацию они представлялись легкими, шальными стопами, способными вознести его застенчивую душу к вратам брака…
— Ах, Алиса, — вздыхал он, — давай поженимся поскорее…
— Погодите, Бонифаций, мои чувства по отношению к вам все еще находятся в той стадии, которую принято называть неопределенной… Любовь придет сама… Любовь не может не прийти…
Эта женщина, как с ноткой завистливой укоризны отмечала моя мать, «всегда изъяснялась ну прямо по-королевски… Оно и понятно: одной Алисе посчастливилось доходить в школу до конца, другим-то пришлось работать в шляпном магазине…». Если моя тетка и в самом деле питала страсть к некоему худосочному красноречию, то происходило это отчасти потому, что она пыталась подражать своему брату Себастьяну, чей фантастический нрав приводил ее в восторг, но главным образом — под воздействием «Тысячи и одной дороги к браку», «Священных врат женитьбы» или «Добродетельного изъяснения сущности любви» и тому подобных сочинений, которые она читала во множестве, смакуя их полный скрытых намеков лексикон, влекущий ее к призванию, казавшемуся ей единственно достойным и возвышенным, воплощающим все ее земные и небесные идеалы… Увы, после первого же объятия, при первом прикосновении руки, поросшей бархатистой черной шерстью. К ее сухой и твердой груди, а особенно при виде столь плоских и бездуховных ступней Бонифация все теткины мечты о возвышенной страсти рассеивались как дым, и холодноватая ее влюбленность мигом сменялась сварливым тиранством.
— Эй, промыра, ты что здесь делаешь? Подглядываешь за обличенными? Жагляни-ка лучше ко мне, я скучаю, как жаба…
Я раздумывала: зайти или нет к дяде Себастьяну, ведь в судьбе этого молодого человека, которого я так любила, таилось, как я полагала, нечто угрожающее и странным образом связанное с витавшими в воздухе отголосками трагедии, которая могла внезапно разлучить меня с Серафиной, — меня томила смутная угроза, связанная с обожаемым существом, я не хотела домысливать, с каким именно, ибо кошмарные предчувствия подсказывали мне, что дядюшка Себастьян, пришибленный собственным несчастьем, мог, сам того не ведая, накликать какую угодно напасть и на Серафину, и на меня.
— Ну что же ты не идешь? Ведь ты у меня одна на свете, никого больше нет. Полина-а-а!
В конце концов жалость брала верх, и я уступала.
— Тебе про что сегодня рассказать? Про серую жабу — как она каталась на коньках по церкви? Или про верблюда, что воровал свечи? Жагляни под кровать, там сложены все мои рассказы, я пишу их по три штуки в день… Прочтешь, когда вырастешь… Вот увидишь, сколько разных разностей мы с тобой сотворим… Стаканчик воды, Полина, только никому не говори, принеси мне стаканчик воды… Тут никто не виноват, просто все обо мне забыли… А меня жажда мучит…
Но когда я пытаюсь помочь ему напиться, он деликатно отстраняет мою руку.
— Я сам управлюсь, промыра, я преотлично себя чувствую, только не могла бы ты капельку приоткрыть окно? Боюсь, что ты здесь задохнешься… А заодно мы выпроводим чудовищ… Ты их видишь? Я-то их не боюсь, мы подружились. Я с ними по-хорошему, вот они на меня и не рычат. Никогда не нужно злобствовать, Полина, чудовища этого не любят.
Читать дальше