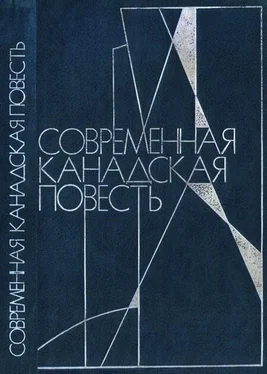Я веду машину молча. Мне всегда неуютно в присутствии священников, я не знаю, о чем с ними говорить. Скажи кюре хоть слово о религии — и я за себя не ручаюсь. Он тоже молчит. В профиль он выглядит хмурым и похож на напористого крестьянина. Отвислые щеки со склеротическими сосудами оттягивают книзу кончики нижней губы, что придает ему сходство с бульдогом. Внезапно резким, хрипловатым голосом, не отличающимся богатством интонаций, кюре говорит:
— Я беседовал вчера с мадам Дюбуа.
— Да?
— Она не говорила ним?
— Нет.
Пауза. Я видел вчера Мадлен только за ужином, очень недолго, и она мне ничего не сказала — вероятно, из-за Терезы.
— Она гордячка.
— Откуда вам знать?
Неужели он думает, будто я позволю ему говорить в таком тоне о моей жене! И вообще, кто просил его спасать наши души? Меня поражает, что он, такой застенчивый в самых простых ситуациях, вдруг столь бесцеремонно вмешивается в чужую жизнь.
Однако кюре продолжает, не обращая внимания на мои слова:
— Гордячка. Ее самолюбию льстит скандал. Она упорствует, потому что ей нравится быть в центре внимания всего города.
Возможно, он так расхрабрился оттого, что ему не приходится смотреть мне в глаза. Он прав, Мадлен действительно бросает вызов всему городу. Мне, как никому, известна ее гордость. Однако мне известно и то, что у нее есть причины более серьезные и более глубокие вести себя так. Что он понимает в характере Мадлен, этот толстый старикан, который берется судить ее, хотя не может знать женщин просто в силу своего звания?
— Она отказывается выполнять свой долг, потому что мнит себя выше этого. Она считается лишь с собственными прихотями.
— Вы сказали ей все это?
— Да, но она не стала слушать. Выпроводила меня, не моргнув глазом.
Легко представляю себе, как держалась Мадлен. Голова высоко поднята, отсутствующий взгляд. «У меня через пять минут назначена встреча». Или: «Мне необходимо принять ванну перед ужином».
— Вы не можете примириться с тем, что рядом с вами живет свободный человек.
Я сказал это, не желая задеть его. Холодное наблюдение, не более.
— Никто не свободен сеять грех. Свобода состоит не в том, чтобы нарушать законы естественные и божественные.
— По-моему, свобода — это неограниченная возможность добиваться счастья.
— Я вас не понимаю.
— Счастье человеческого существа во сто крат важнее ваших законов.
Кюре обращает ко мне свое оплывшее лицо. Он уязвлен. Моя реакция для него неожиданна.
— Так можно и убийство оправдать счастьем, которое убийца в нем находит.
— Вряд ли убийство способно сделать человека счастливым. Вот вы священник и каждый день закрываете глаза умирающим. В состоянии ли вы в этот момент судить их так же безапелляционно, как мою жену?
— В этот момент моя миссия заканчивается. Эти люди предстают перед другим судией.
— Как же вы вообще беретесь судить, если даже не знаете, в чем состоит это высшее правосудие, превосходящее ваше понимание, и совпадают ли божьи каноны вашими?
— Но ведь наши законы продиктованы Господом!
— Его главнейшие заповеди говорят о любви.
— А вы помните, чт о Он сказал про того, через кого зло приходит в мир?
— Он пощадил блудницу.
— Я осуждаю не душу, я осуждаю греховные поступки, вводящие в искушение других. Я несу ответственность за души своих прихожан, и, когда я предстану перед Господом, мне придется отчитаться за них.
— Вы полагаете, Он возложит на вас вину за тех, кого вы не сумели спасти?
Кюре явно взволнован. Он смотрит в одну точку, и губы его подрагивают.
— Да, полагаю, — отвечает он после паузы. — Иначе в нашем звании не было бы никакого риска.
— А вам не кажется, что в такой позиции есть известная доля гордыни?
Он опять молчит, мучительно размышляя.
— Конечно, в нашем звании искушению гордыней поддаться легко. Но у постели умирающего гордым быть невозможно. Соборование всякий раз приводит меня в трепет. Каждая смерть заставляет заново все пересматривать. Я ни в чем не уверен. Гордыней было бы, если б я не сомневался в успехе.
— Но ведь это тоже гордыня — считать, что Господь именно нам вверил чужие души, что Он избрал именно вас, а не другого.
Кюре поднимает глаза, и я, даже не глядя, чувствую, что он смотрит на меня с горечью.
— Решив стать священником, я сам, по своей воле, стремился к тому, чтобы взять на себя попечение о чужих душах. Но это не значит, что я считаю себя более достойным, чем другие.
Читать дальше