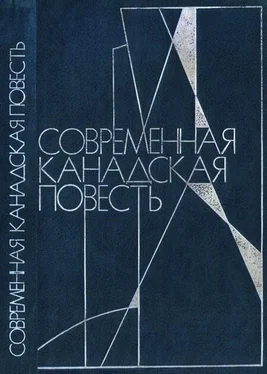— Послушай! Это все равно меньше, чем по одному врачу на тысячу жителей… Почему ты об этом заговорила?
— Да нипочему! Просто потому, что сосчитала таблички. Все-таки развлечение.
Маленький упрямый лоб. Нетерпение раздразненного щенка.
— Тебе не нравится Маклин?
— Бывают, конечно, города и получше. Но мне все равно.
— Ты же знала, что я собираюсь обосноваться здесь!
— Мне все равно. Не надо так нервничать.
— Мне все равно! Мне все равно! Господи! Мы же собираемся строить здесь свою жизнь.
— Твою жизнь… И вообще, ты мне надоел.
Я был ошеломлен. Однако решил, что все дело в усталости и плохой погоде. Она просто не сумела сдержать раздражения. Где же Мадлен наших первых дней? Та, что обладала поразительной способностью выдумывать разные занятия, заполнявшие день, горела неуемным желанием все испытать и в моих объятиях внезапно уносилась куда-то — я видел это по ее голубым глазам, неожиданно терявшим блеск, — и возвращалась столь же внезапно, улыбаясь неопределенной и робкой улыбкой. Я всегда знал, что она своевольна и заносчива, но никогда раньше не видел у нее такого враждебного и замкнутого лица, не замечал этого холодного практицизма.
— К тому же я обнаружила здесь два кинотеатра.
Она говорила почти сквозь зубы, каким-то свистящим голосом, который наконец вывел меня из себя.
— Скажи на милость, уж не матушка ли твоя посчитала эти таблички?
Она искоса взглянула на меня и ответила не сразу. Удар обрушился через несколько шагов.
— У моей матери по крайней мере нет долгов. Так что не тебе задирать нос перед моими родственниками!
Она намекала на мой крупный заем в банке. Скромной суммы, которую дала мне моя мать — все, что она сумела сэкономить из жалкой ренты, оставленной моим отцом, умершим, когда мне было пять лет, — не могло, разумеется, хватить для того, чтобы начать врачебную практику.
Я вздрогнул, но не ответил. Непроницаемый панцирь лба скрывал ее от меня. Лица, попадавшиеся нам навстречу, были белыми и блестящими. Шум дождя словно войлоком окутывал улицы. Казалось, никто не чувствовал себя счастливым в тот день. Я сжал локоть своей жены, и меня вдруг обдало теплом. Мне захотелось как-то смягчить ее, прогнать этот сварливый вид, который она на себя напустила. Я поцеловал ее в шею, но она отстранилась, пожав плечами. Я слегка коснулся ее руки.
— Мадлен, мы с тобой идиоты. Для ссор у нас еще впереди вся жизнь!
Она подхватила эти слова, словно собака — кость:
— Великолепная перспектива!
Я готов был ее поколотить. Она шагала с абсолютно каменным лицом. Без малейших признаков негодования или досады. Наконец остановилась перед рестораном Кури и тоном, не допускающим возражений, объявила:
— Мы ужинаем здесь.
Я замялся. Маклинская элита — а я, хоть и без гроша в кармане, но все же к ней принадлежал — не ужинает в ресторанах, тем более в обществе жен. Однако Мадлен не признавала классовых различий. Она была дочерью рабочего и до нашей женитьбы знала лишь перенаселенный квартал большого города, греческие или сирийские ресторанчики и чувствовала себя как рыба в воде среди плотной и серой людской массы. Она так же гордо вскидывала голову в этом своем окружении, как и перед моей матерью или в гостиницах во время свадебного путешествия. Бедная мама! Высокомерие Мадлен ее настолько подавляло, что у нее даже руки дрожали, когда она подавала на стол. Мать ощущала и ней какую-то непонятную силу, какой-то внутренний огонь, заставивший ее отступить и молча склонить голову перед женщиной, которая отнимала у нее единственного сына. Она закрывалась в своей комнате и выходила, только чтобы покормить нас. Моя жена, напротив, вовсе не чувствовала себя скованной в присутствии свекрови: волосы ее горели ярким пятном, подбородок был высоко вскинут; она даже нарочито покачивала бедрами при ходьбе. Мелкий, бессмысленный вызов. Надо сказать, что манеры Мадлен при этом нельзя назвать вульгарными, они вообще не имеют определенной социальной окраски. Ее манеры глубоко свободны и принадлежат только ей, и идут ей, как цвет ее волос и одежда. Мадлен — воплощенное отрицание всякого принуждения, и в ней это органично, хотя в любом другом человеке могло бы показаться раздражающей позой.
Кури решил, что мы зашли купить сигарет, и тут же встал за кассу; на мгновение он растерялся, увидев, что мы направляемся к столикам, но тут же вновь принял торжественно-почтительный вид, готовясь нас обслужить. Он медленно двинулся к нам, скорее скользя, нежели переступая по полу, и с легким поклоном произнес:
Читать дальше