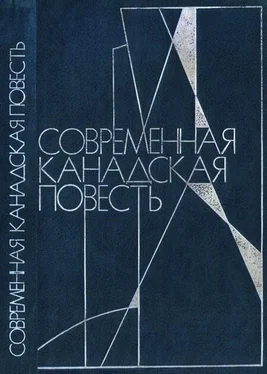Не раз я пытался потом воссоздать обстановку того последнего сентябрьского дня, когда случай швырнул нас друг к другу. Я больше не слышал немого призыва, заставившего меня тогда сжать Мадлен в объятиях, соединить свое прерывистое дыхание с ее и ощутить уверенность, что одно не может пресечься без другого. В тот день я узнал, что Мадлен любила меня — по крайней мере любила в ту минуту; живущее в ней потаенное существо трепетало, и она вся принадлежала мне. Но эта минута несла в себе и разочарование, так как потом я не мог в точности сказать, была ли ее пылкость вызвана просто потрясением или же истинной потребностью, подспудным желанием, которое прежде не находило выхода. Сегодня она, наверно, подняла бы меня на смех, если бы я попытался напомнить ей об этом. Мадлен на редкость непоследовательна, ибо живет мгновением, и, конечно же, станет отрицать, что могла отдать мне всю себя с такой полнотой не в минуту телесной близости. Однако ее порыв был столь непосредственным, что я никогда не поверю, будто все это мне лишь почудилось.
* * *
За три часа мы проехали около ста миль — это все, что можно было выжать из «шевроле» пятилетней давности, купленного два дня назад. Едва стрелка уползала за цифру пятьдесят, как мотор начинал перегреваться.
Лучи фар, выхватив из тьмы небольшой участок дороги, упирались и стлавшийся понизу туман и в нем рассеивались. Мадлен уже около четверти часа дремала на моем плече, чуть приоткрыв рот, и губы ее в слабом свечении приборного щитка казались темно-вишневыми. Когда я притормаживал, голова ее соскальзывала с моего плеча, и рыжие волосы, рассыпаясь, отливали необычным гнедым блеском. Еще миль двадцать, и мы будем у себя дома, в квартире, которую она еще не видела, — я выбирал ее один и один обставлял, потому что Мадлен не любит заниматься подобными вещами. Я на неделю приезжал без нее в Маклин, чтобы все устроить. И теперь она, не вполне еще сознавая это, катила навстречу своей судьбе. Она ехала вместе со мной в маленький шахтерский городок, где никого не знала, и это нравилось ей, ибо неизвестность она всегда встречала с готовностью. При отъезде она даже проявила некоторое оживление, вскоре, впрочем, сменившееся равнодушием, которое следует у нее за нетерпением, если оно не удовлетворяется немедленно.
Шоссе, поначалу широкое и прямое, сузилось и превратилось в извилистую горную дорогу, так что мне пришлось сбавить скорость. Мадлен открыла глаза, приподнялась и сонным взглядом посмотрела в окно. Здесь, на высоте, туман рассеялся, и белая пелена оставалась лишь в ложбинах. Внезапно Мадлен прижалась ко мне и со своей обычной детской ноткой в голосе попросила:
— Дай мне разок нажать на газ.
Я колебался.
— Боишься!
Это было сказано с презрением девчонки, которая, как все дети, не ведает осторожности и вдобавок усвоила из кинофильмов, что риск в конечном счете никогда не бывает по-настоящему опасен.
Стрелка сначала скользнула вниз, потом рывками поползла выше. Мадлен жала на педаль изо всех сил. Впереди открывался длинный спуск. Сорок, пятьдесят, шестьдесят. Мотор урчал чуть громче обычного, но работал нормально. Стрелка замерла на месте. Глядя на дорогу жестким, неподвижным взглядом, Мадлен укладывала под колеса километр за километром. Для полного упоения ей недоставало только преследования полиции. Она еще прибавила газу. Не успел я открыть рот, чтобы напомнить ей о ненадежности мотора, как вдруг услышал неузнаваемый, хриплый от возбуждения голос:
— Смотри! Впереди — поезд!
Внизу мигали красные огни. Я нажал на тормоз. Машину занесло и выбросило на встречную полосу. Острая боль в правой руке заставила меня на секунду выпустить руль. Мадлен укусила меня.
— Брось тормоз, брось!
Этот чужой голос, словно в машине, кроме нас, сидел кто-то третий, ошеломил меня. Я повиновался. Стрелка мгновенно подскочила и задрожала над цифрой семьдесят. Красные огни молнией рассекли тьму и пронеслись мимо. Я увидел, как фара паровоза резко высветила устремленный вперед профиль Мадлен. Мне показалось, что мы проскочили в последний миг. На самом деле состав прошел лишь секунд через десять.
Кабина наполнилась тошнотворным запахом жженой резины.
— Хватит! Мотор сожжешь!
Три паровозных свистка, коротких и жалобных, болезненно отдались у меня внутри, и вдруг я успокоился. Рядом со мной лицо Мадлен светилось исступленным восторгом. Она наконец отпустила акселератор и на минуту замерла. Потом, вскочив коленями на сиденье, судорожно обняла меня, слепя волосами. Я притормозил у обочины. Мадлен оторвалась от меня, чтобы полнее пережить это мгновение. Она откинула затылок на руль, продолжая обвивать руками мою шею, глаза ее горели неукротимым блеском. Она прерывисто дышала, и ноздри ее раздувались, придавая лицу выражение жестокости, смешанной со страданием. Казалось, она напрягала все силы, чтобы не потерять сознание. Внезапно меня захлестнула невероятная нежность к этому беспощадному созданию, дрожащему от кровожадности на моей груди. Я поцеловал ее. Губы Мадлен были сухи. Она ответила на мое объятие с необузданностью ребенка, который колотит мать, чтобы выразить свою любовь. Она способна была растерзать меня, чтобы передать то, что чувствует. Вероятно, ей просто нужна была разрядка. Вполне возможно. И все-таки я думаю, что в тот момент она дарила мне единственную доступную ей любовь — безраздельную и не ведающую жалости. Ее гордость, ее чудовищная мелкая гордость растаяла, благодаря ничтожному происшествию.
Читать дальше