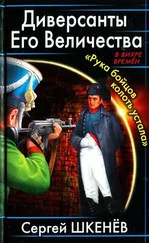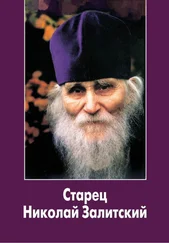Более того, в один прекрасный день мама добилась, чтобы меня перевели в школу при консерватории. Вскоре я перестал сравнивать себя с другими школьниками — сравнивать было не с кем, теперь у меня в классе все были такие.
Если внимательно посмотреть на то, каким я был в детстве, может возникнуть вопрос, как я вообще умудрился закончить школу, да еще потом и консерваторию. Я сам себя раньше спрашивал. Дело в том, что у меня действительно получалось играть. Мне это давалось довольно легко и казалось, что так и должно быть и нет здесь ничего особенного. Если что-то поначалу дается без особых усилий, кажется, и стараться незачем. Вот мне и казалось. Я думал, что все в жизни будет происходить так же легко. Только теперь я знаю, что если у тебя по-настоящему получается делать какое-то одно дело, то в большинстве остальных вопросов ты, как правило, полный профан.
Если рука не заживет или заживет как-то не так, я останусь как раз с теми самыми «остальными» вопросами. Без того единственного дела, в котором могу быть действительно полезен. Впрочем, дело не в пользе, плевать я хотел на пользу. Я просто ужасно люблю то, чем занимаюсь. И мне очень страшно.
Мне не нравятся разговоры о предназначении и о том, что некоторые люди рождаются с готовой судьбой. До определенного момента у меня получалось неплохо играть, но не более того. Уже учась в консерватории, я продолжал ловить себя на том, что думаю, кем же стану, когда вырасту. Но однажды летом произошло вот что.
Я отдыхал на море, у дальних родственников. Каждый день проводил на пляже: плавал до изнеможения и глазел на полуголых сверстниц. О музыке я особо не думал. Вообще ни о чем толком не думал. И вот как-то раз, уплыв довольно далеко от берега, я вдруг понял, как надо играть Баха.
Вспомнил кассету с Бранденбургскими концертами, когда-то лежавшую у нас дома. На этой кассете был изображен океанский берег, а на небе впечатана крупная надпись — Bach. Довольно пошлое оформление, на самом-то деле. Но подумал я вот о чем.
Море — непреложно. Оно просто есть, и мы ничего не можем с этим поделать. Мы не можем изменить ритм приливов и отливов, структуру дна и цвет воды. Оно такое, какое есть. Мы не можем ничего сделать с морем, потому что не присутствовали при мироздании. Та же история с Бахом. Его нельзя менять, как-то специально интонировать, пытаться освежить, делать современнее. Он слишком далеко. Он уже недосягаем. Он уже такой, какой есть. И в этой музыке мы уже ничего не можем поменять.
Понятна мысль? Бах должен оставаться таким, какой он есть. Океан нельзя изменить, его можно только загадить. Я прекрасно понимаю, что мысль не моя и не мне первому она пришла в голову. Собственно, Баха обычно так и стараются играть. Но одно дело играть его так, потому что тебя этому научили, и совсем другое — неожиданно понять самому. Как бы просто и даже банально все это ни звучало.
Я ушел с пляжа и, наверное, целый час стучал пальцами по тетиному подоконнику — пианино у нее в доме не было.
Сегодня приходили родители. Вместе я их не видел уже больше двадцати лет. Когда-то я прилагал столько усилий, чтобы это произошло, чтобы они хоть ненадолго снова оказались вдвоем, рядом со мной. Но даже на моих концертах, даже на госэкзамене они сидели в разных концах зала. Оказалось, достаточно просто попасть под машину.
Они оба были обеспокоены и при этом заметно смущены. Особенно отец. Все время говорил что-то невпопад, пытался шутить, каждый раз неудачно, отводил в сторону глаза.
Мама принесла мандарины. Огромный шуршащий кулек. Лежат теперь на тумбочке рядом с кроватью и пахнут. Либо в запахе мандариновых корок действительно есть что-то хвойное, либо для нас он настолько неотделим от Нового года и елки, что воображение само добавляет недостающие оттенки.
Я не сказал им того, что знаю о руке. О том, чем все может закончиться. Впрочем, они, скорее всего, поговорили с врачом. Да и мама была здесь уже не в первый раз, наверное, давно все выведала, просто вида подавать не хочет.
Кстати, о Новом годе. В конце декабря папа всегда приносил домой живую елку. Мама говорила, что ей жаль деревья, что давно пора купить искусственную, но тут мы с папой были заодно. Так и вижу его, входящего домой с мороза, с еще не растаявшими снежинками на пальто и шапке, красными щеками и разгоряченным дыханием. Пока он не закрывал за собой дверь, изо рта у него вырывался легкий парок.
Мама в итоге каждый раз сдавалась: папа елку, в конце концов, не из леса принес, а купил уже срубленную, так что все равно пропала бы, а так всех нас порадует. И мы вместе принимались ее наряжать.
Читать дальше