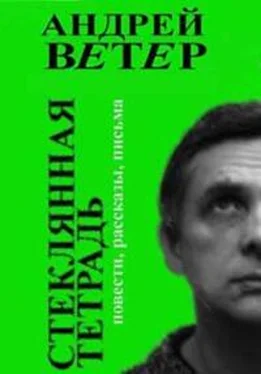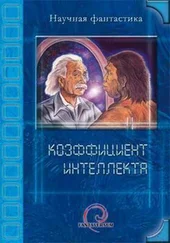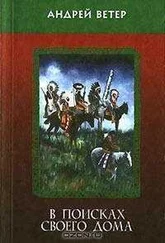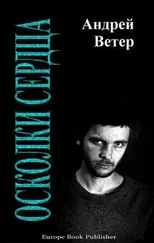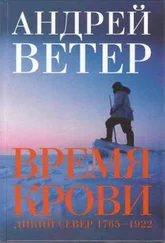Она уступила, и моему изумлению не было конца, когда я обнаружил возле себя голенькое тоненькое существо с едва наметившимися грудками и ясно прорисованными рёбрышками под прозрачной кожей. Она смешно горячилась, изображая страсть, но было очевидно, что её сексуальный опыт сводился к двум–трём случаям. Тело её пока что дремало.
Невзирая на взаимное разочарование, мы всё же повторили наше совокупление, но зачем? Ужели нам нравилось находиться вместе, но встречи казались не до конца полноценными без объятия? Что заставило меня порвать всякие отношения с пылкими подружками и заняться хрупкой девочкой, вид голых рук, да и всего тела которой всякий раз окатывал испугом: женщина ли она вообще?
Сейчас я царапаю по бумаге пером, которое то и дело нужно подпитывать чернилами, чтобы не прекращала сочиться тёмно–синяя слюна из раздвоенного носика авторучки, оставляя свитые в слова загогульки. Трудолюбивое, размеренное поскрипывание перьевого кончика с налипшими на нём пылинками напоминает мне неторопливое течение жизни. Идут дни, а я не понимаю, для чего они проходят. В кино и книгах нет места лишнему, всё подчинено логическому руслу повествования, крепко увязано, каждый шаг — во имя следующего шага к определенной цели. Для чего же я изливаю на бумагу моё нутро?
Моей женой восторгались поголовно все мои друзья, независимо от их пола. Комплименты звенели, как хрустальные бокалы с игристым вином… поклоны, театральные коленопреклонения, букеты цветов, флаконы с духами, серьги и прочие мелкие знаки внимания заполняли пространство вокруг неё. Она нравилась, умела влюблять в себя и забавлялась этим, а меня жгла ревность. Она раздаривала себя другим, не ощущая никакой потери, я же каждой клеткой чувствовал, что самая малая её улыбка, адресованная кому–нибудь, была обкрадыванием меня.
Через наставленные на столе стекла тёмных винных бутылок и синеватые блики хрустальных ваз я внимательно следил, прикрывая горящие глаза ладонью, за поворотом её красивой головы, за собранными в пучок волосами, за приглушенной улыбкой, полной притягательной силы. А они, эти дышавшие табаком и водкой самцы, тянулись к ней, явно надеясь не на одну улыбку. Иногда их темноволосые руки в отвёрнутых по самый локоть, как у мясников, рукавах дотрагивались до шелковистых складок её платья.
Мужчины… Я их отлично чувствовал, здоровых, напористых, уверенных в своей мужской неотразимости… Вот у одного к мясистым губам липнет набухший сигаретный фильтр. А у другого ноздри чувственно раздулись, как жабры, втягивают запах её тела.
А она, повелевающая миром, временами капризная, остроумная, шаловливая, мне одному (что за жирная, заглатывающая жадность?) принадлежащая, смеётся в ответ на пошлости, словно не замечая их. Или не хочет портить отношений? Ведь они — мужья подруг. Не давать же им по щекам? Впрочем, могла бы и шлёпнуть разок, а то вон тот ногу на ногу барски закинул, пуговичку на воротнике рубашки расстегнул…
Куклы и комиксы давно сброшены со стола и разлетелись шелестящей стаей отвергнутых бумажных листков, некогда служивших мне незастеклёнными окнами в заколдованные миры. Теперь вокруг — пепел повседневных сигарет на обрывках непристойных любовных записок и горсть противозачаточных таблеток. Я стою на голом столе, покинутый и никому ненужный, как путник посреди холодной пустыни, и вывинчиваю перегоревшую электрическую лампочку. Нежность и любовь, как пугливые молодые зверьки, давно разбежались. Отныне ничего впереди не лежит, кроме продуваемых тоскливым ветром десятков скучных лет. Однажды вступив босыми ногами на тропу бесстыдных взрослых людей, я проколол себе осколками цинизма ступню и тем самым обрёк себя на медленное и мучительное заболевание. Через открытую рану проникла зараза и вылилась моя душа. С тех пор я обречён на страдание.
Внезапно осознав, что я лишился всей былой светящейся мечтательности, я ужаснулся. Взглянув в зеркало, я себя не узнал. На меня смотрела утомлённая физиономия. В набрякшей коже лба и щёк, в зыбких мешках под глазами и в самих глазах, каких–то мутных и не стоящих на месте, проглядывалось нечто неуловимое, что окатило меня холодом. То была невидимая никем мёртвость.
Всё чаще меня бил озноб.
Я пытался хвататься за предметы, чтобы чувствовать жизнь, но не мог ничем заменить упущенного ветра моего детства, который грел меня раньше, охранял и относил на своих мягких руках в душистые шалаши грёз. Перламутровые статуэтки, разноликие фигурки божков из слоновой кости, толстые пахучие переплёты книг — они наваливались на меня каменными глыбами. Ключом хлестало раздражение и обливало всех без разбора. Капли жгучего яда попадали и на моё собственное сердце, лопались сосуды, брызгала кровь.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу