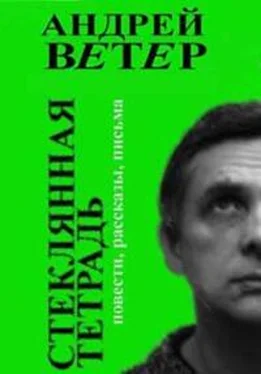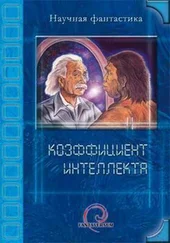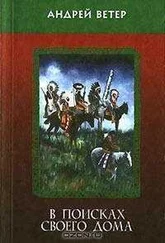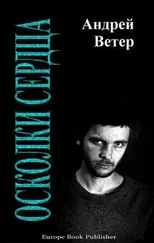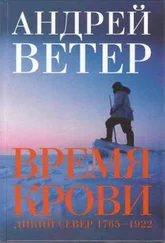Чем пристальнее я всматривался в привычные, казавшиеся непоколебимыми, прочно скроенные формы внешнего мира, тем более понимал я собственное заблуждение: ничто не было надёжно, всё оказалось хрупким и крошилось от незначительного взмаха руки (полетела граната).
— Ах, ты… ё твоё…
Небесная лазурь вспоролась шипящими полосами дыма. Точно фейерверк на детском карнавале, где пшикают хлопушки и сыплются искры бенгальских огней под восторженный визг детворы.
Дёрнулся склон, поперхнулся снарядом, могучая грудь содрогнулась, в мгновение ока земля вздулась и отрыгнула чёрными комьями с примешанной огненной слюной. Вокруг забарабанило, жахнуло оглушительно и внезапно набросило тяжёлый, наглухо скрывший меня ковёр. Песчинки впились в щёку.
А разбудило робкое дзиньканье хрустальных бокалов, за которым потянулось нудное бубнение дикторского голоса (радио). Кто–то тяжело вздохнул. Прошла в мерцающем воздухе белохалатная тень.
Тоскливое пробуждение. Никто здесь не ждал. Я был одним из тысячи незнакомцев. Меня вертели, протирали, брали обмякшие части тела крепкими пальцами, подсовывали ледяное стекло «утки» под скомканный отросток, отдирали тампоны от кровавой накипи на коже. В нос лился ядовитый медицинский запах. Врачи трудились, исполняя свой долг, сопя и хмурясь. Иногда бесцветная медсестра подмигивала мне после процедур.
— Что грустишь, боец? Счастливо ты отделался, радуйся. Похромаешь несколько месяцев и придёшь в полную норму.
Я отмалчивался и следил глазами за гудевшими под потолком мухами.
Случалось всякое: днём, уставившись на омытое дождём окно, я часами валялся неподвижно, затем впадал в ярость, лупил кулаками по пыльному дивану и угрожал кому–то невидимому, а ночью тихо плакал, уткнувшись в зыбкую грудь случайной знакомой, чем пугал её не меньше, чем приступами душераздирающих воплей.
День ото дня уныние меняло форму, перетекало в недоумение: люди настойчиво продолжали жить, когда внутри меня неподъёмным грузом лежала мёртвая пустота. В мире же ничто не изменилось, ничто не разбилось вдрызг. Муравейник кишел, толкался локтями. В этом огромном театре всё шло своим чередом, каждый играл свою роль.
За немудрёной игрой в крестики–нолики прошмыгнула учёба в институте, куда меня затащили ветераны–приятели. На групповом портрете знакомых появился десяток новых физиономий, одни рыхло потряхивали щеками, иные оптимистично скалили рты. Подсаживались разномастные женские особи и, в ожидании привычных развлечений, томно приспускали занавески пушистых ресниц.
Эти женщины разительно отличались от моих школьниц. Девочки из ясного детства так и не изменились, потому что остались там — в воркующем хороводе белых фартучков и бантов, они смущались и покрывались румянцем, шептались на ухо (по очень важному секрету), украдкой поглядывали на избранников сердца, которые не замечали их. Они жили во мне, а не среди живых людей. Среди людей они взрослели, вытягивались и укрупнялись чертами, делались из шаловливых неженщин обыкновенными самками. А внутри меня им не угрожали никакие метаморфозы, они были надёжно впаяны в пласт совершенно определённого времени, которое было помещено в вакуумную камеру, куда не допускались посторонние, могущие поломать и нагадить. Не осталось девочек кротких и испуганных, их заменили красивые женщины, в глазах которых постоянно тлел уголёк циничного, всепонимающего огня. Ни в одной из них, сколько ни всматривался, не удалось приметить ни тени детской простоты.
И всё же объекты моих целомудренных влюбленностей не умерли.
Я знал наверняка, что они продолжали жить вокруг меня и во мне, оставаясь невидимыми для суетного окружающего мира. Если бы они пропали на самом деле, не стало бы и меня, перестало бы вздыхать васильковыми волнами поле (о чём ему так вздыхалось?)…
Ах, впустите меня обратно в цветную сказку! Мне не нравится серая холстина моих теперешних отношений. Сделайте меня вновь крохотным и наивным, не удерживайте меня жестокими законами!
Пусть не взрослеет мир…
Эти женщины разительно отличались от моих школьниц, я не могу не повториться. Одна из них, черноволосая чаровница, буравила меня сквозь полумрак комнаты хищными глазами. Такой взгляд не ищет смущённой улыбки облизанных от волнения губ. Такой взгляд ждёт кивка, знака… Она протянула изящную руку к своей подружке. Змеиная кожа облегающего рукава вспыхнула и померкла. Кончики пальцев с залитыми лаком ногтями вздрогнули. И подруга засмеялась, поняла. Ах, её голос! Шёлковые нити по ветру… Она была вся соткана из своего голоса. Только бы не утихал он, не растворялся бы в комнатных тенях, предназначенных не для голосов вовсе. Его бы руками взять, пригоршней ко рту поднести и вдохнуть, чтобы ощутить бархатное дыхание этой длинноногой самочки, почувствовать, как мерно вздымаются эластичные стенки её лёгких… Смех её не прерывался. Белки глаз уже совсем близко ко мне подплыли и тут пахнуло кисловатым запахом вина с примесью аромата губной помады. Дыхание её шарило по моему лицу, пульсировало нервно и горячо.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу