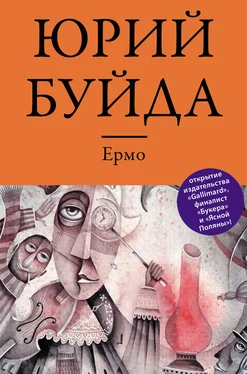Джордж лишь усмехался: что тут скажешь? Как ни смешно, Джанкарло кругом прав, – но это Ермо не трогало: для всех открылись ржавые… Для Джанкарло – тоже. Для него даже раньше, чем для других, недаром он перестал вдруг пользоваться гримом и париками. Впервые заметив это, Ермо хмыкнул: он забыл, как выглядел Джанкарло раньше, до того, как принялся отчаянно менять маски, маску за маской, пока не сросся с маской – с какой? Неважно. Уже неважно. Старик перестарался. Теперь он и сам, видно, не знал, как себя вести, какой маске какое поведение должно соответствовать, запутался, заплутал, – и отсюда-то его неприятная болтливость, мелкая какая-то суетливость, эти заискивающие взгляды, сменяющиеся вдруг подозрительно-злобными.
«Писатель, конечно, вправе нафантазировать человека, то есть превратить человека в героя – хотя бы только в героя литературного, не испросив позволения, что ж, на то и литература, на то и искусство, – но вот вы в своем великом – так ведь все пишут? – в великом романе «Вторая смерть» сочинили, будто герой, спасающий невинных людей от смерти, берет с них плату… ну как бы и не плату, но все же: требует от женщин покорности, и они соглашаются, а некоторые даже удивляются, какой малостью приходится платить сладострастнику… А я читал и думал о себе, если не возражаете… Я ведь ни одного из тех людей не видел в лицо. Понимаете? Нет, вы только вообразите: ни одного! В этом было что-то даже пугающее. Иногда я задумывался о реальности происходившего… да было ли все это? Не ложь ли все? Не выдумка ли моих друзей, которые брали под это деньги, использовали мое имя и так далее? Вот сюжет! Литература! Представьте себе только: а что, если бы на самом деле все это предприятие от начала до конца оказалось грандиозной мистификацией – вымышленные евреи, выдуманные опасности… Бр-р! Чья-то затянувшаяся злая шутка. Продуманная до мелочей. А я – поверил! Может, и были какие-нибудь сомнения, но во время войны, да в таких ситуациях, знаете, либо веришь и действуешь – либо не веришь и всех посылаешь к черту, – и я поверил и дал денег, дал имя… – Он смеялся и с наслаждением потирал руки. – Вот это шутка! И значит, мои опасения, и переживания жены, и последующие события – тоже шутка, эй, встряхнитесь, все понарошку – а? Но ни у кого не хватает духу признать и признаться…»
Лиз давно не вслушивалась в его трескотню, а Ермо лишь задумчиво пыхал сигарой. В такие минуты Джанкарло напоминал ему Федора Павловича Карамазова с его умом-подлецом, виляющим и прячущимся. Конечно, в том-то все и дело было: Джанкарло снова начал прятаться. Теперь он принимался рассуждать о подвижниках, уходивших в пустыни и леса, живших в пещерах, в затворе и одиночестве, испытывая себя и Бога, восходя к Нему и, наконец, сливаясь с Ним в мистическом единении. Обретая при этом чудесную силу, превращая слово «хлеб» в хлеб и взглядом отклоняя пущенную в сердце разбойничью стрелу.
«В одиночестве человек претерпевает химические изменения, – разглагольствовал Джанкарло, некрасиво выпячивая губы и шевеля пушистыми бровями. – Он и сам не предполагает и не может знать, что с ним произойдет, но однажды вдруг оказывается, что ему под силу сдвинуть гору или криком остановить солнце… Слабые становятся сильными, малые – великими…»
Ермо со вздохом поднялся, бормоча в тон старику: «А великие – зелеными и кислыми…»
Но Лиз не позволила завершить вечер миром.
В дневнике Джордж записал, что никогда еще не видел жену такой разъяренной, даже – страшной. Она медленно поднялась из-за стола – на унавоженном белилами лице живыми были только дрожащие черные губы – и проговорила негромко, но с такой силой, что ее небрежно-аристократический итальянский прозвучал как латынь:
«Ты меня убедил. А теперь выйди на площадь и скажи всем: я – Джанкарло ди Сансеверино, я жив, я всех вас обманул».
«Жизнь отличается от театра лишь прискорбным отсутствием занавеса, который в этом месте просто обязан был рухнуть с небес прямиком на Джанкарло, – пишет Ермо. – У него, впрочем, хватило ума смолчать…»
С того дня Лиз перестала подниматься в убежище своего бывшего мужа, вычеркнула его из своей жизни – «вычеркнула из себя», как она однажды выразилась.
По утрам старая Луиза выкатывала ее на галерею. Из глубины дома приближалось слитное пенье сотен крошечных серебряных колокольчиков на стеклярусных нитях, распахивались двери с кракелажными стеклами, и под звон серебра и похрустыванье колес кресло подплывало к столу. Лиз нравилось скрываться под балдахином, за стеклярусным занавесом, из которого она вдруг со звонким всплеском выныривала, чтобы, схватив со стола яблоко или чашку с жидким чаем, снова скрыться в своей будочке.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу