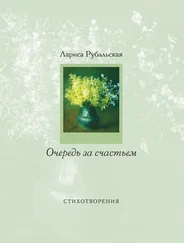Кугут нес впереди факел. Он подчеркивал важность и срочность процессии. Случайные встречные очередники видели ее издали, сторонились и пропускали. Мокрый от пота череп главаря блестел в реющем на ветру пламени. Старик тяжело, валко, быстро шагал перед тележкой. На спусках не переходил на бег, а временно передавал факел подручным, чтобы на медленном тяжелом подъеме так же размеренно обогнать процессию и вновь взять огонь.
Из всей группы только двое, главарь и Лихвин, не толкали тележку. Но, если Кугут шагал отдельно, чтобы следить за ситуацией, то Лихвина, хоть он и хотел впрячься, не подпускали. Потому ли, что ослаб от кровопотери, по другой ли причине никто не хотел тянуть с ним в паре. В том, как он молча, настойчиво предлагал помощь и получал отказ, было что-то очень похожее на утреннюю толкотню вокруг дворницких санок, когда могучая дворничиха единолично тянула лямку, безжалостно оттирая помощницу. Тогда и сейчас в отказе от помощи чувствовались унижение и оскорбление.
Но униженнее всех в этой странной процессии был тот, кто проделывал путь без всяких усилий. По видимости учетчика везли, как раджу, а он ощущал себя вещью, с ним никто не считался, его мнение заведомо никого не интересовало. В тележку его усадили исключительно по необходимости, и верно рассчитали: на своих ногах он не выдержал бы темпа подъемов и спусков. Один день в городе обескровил и преобразил его до неузнаваемости. Он был закутан, как кукла, в чужое тряпье, потерял способность к сопротивлению, чувства притупились. Разве кто-нибудь из загородных знакомых узнал бы вездесущего, неунывающего учетчика в скорченном полумертвом инвалиде! Он один не участвовал в согревающей и сплачивающей ходьбе. Каждая жилка ныла, суставы ломило, мышцы сводила судорога. Чтобы унять судорогу, учетчик изо всей силы выпрямил ногу, она нелепо торчала из тележки вверх.
Но, странное дело, когда он перестал смотреть на дорогу, закрыл лицо от морозного воздуха и окунулся в волны знобкой дрожи, тогда в глухой стене безысходности забрезжил не то чтобы выход, но все же некий зазор, куда можно было попытаться вбить клин. В действиях врагов прослеживалась непоследовательность. Очередь цинично использовала учетчика для своих непонятных городских прихотей, но обращение с ним менялось на диаметрально противоположное. Какой-то неведомый ветер мотал этот флюгер в разные стороны. Часто очередь грубо и бездушно помыкала учетчиком. Но иногда те же люди берегли его, точно страшились суровой кары за причинение малейшего вреда. Лихвин с риском для жизни выловил учетчика из реки (если бы он раньше обмолвился, какое огромное значение имеет для него инструмент, Лихвин, наверно, не стал бы резать лямки, вытолкал бы мешок наверх вместе с хозяином). Потом целая команда гребцов-спасателей, неистово тыча веслами и шестами в плотно идущий лед, пробивалась к учетчику поперек реки. Они не щадили ни себя, ни лодку. На берегу учетчика моментально окружили заботой, в то время как и раненого Лихвина, и девок-двойняшек оставили замерзать без всякой помощи. Причем те не выразили никакого протеста, восприняли как должное. Валенки на резиновом ходу, которые Лихвин обещал учетчику за свидетельские показания, но пожадничал отдать, спасатели без разговоров надели на учетчика, обернув ему ноги сухими портянками из лихвинских же запасов.
Правда, пока учетчика переодевали и растирали, он видел, как темноволосая двойняшка подходила к реке, делала робкие жесты подруге на том берегу, зовя обратно. Но просить о помощи соочередников не смела. В итоге, та, что столкнула учетчика с переправы, определила успех погони и тяжелее всех пострадала, оказалась брошенной. Одиноко, понуро сидела она на холодной земле за широкой лентой ледохода. Раненая бессильно роняла голову на грудь и стыла в неподвижности. Компания ледокольщиков на другом берегу прошла вслед за погоней вниз по течению. Они что-то обсуждали в своем кружке, кивали на утопленницу, но не приближались.
Так она там и осталась. Ее товарка вместе со всеми бежала за тележкой с учетчиком. Вспоминала ли она о подруге, о том, что они шли на танцы? По ее поведению этого не было заметно. Накинув на голову куцее одеяло, украденное из спасательной станции, шутиха без тени прежнего высокомерия заглядывала в лицо учетчику, развязно и льстиво кричала: «Не спи, замерзнешь!» Она тоже искала малейшую возможность поучаствовать в опеке над учетчиком.
Выходит, очередь окружала учетчика вниманием и заботой в те моменты, когда он требовался для какой-то надобности могущественным лицам, стоявшим над очередью, их приказы беспрекословно выполнялись, их желания угадывались. Но как только у этих лиц пропадал интерес к учетчику, очередь дружно от него отворачивалась. Его могли бросить без помощи там, где он потерял сознание, закинуть на крышу сарая, чтобы не валялся во дворе, не мешал проходу все тех же важных лиц. Может, учетчику следовало поискать защиты от стоглавой, сторукой очереди у тех, перед кем она заискивала? Не у подвального секретаря, откровенно сказавшего, что он человек подневольный и в делах учетчика никак не заинтересованный, а выше, на этажах здания, в коридорах и кабинетах кадровой службы. Оттуда дул ветер и спускались распоряжения. Например, приказ снять с учетчика свидетельские показания, а после ознакомления с ними столь же категоричное повеление задать ему некий уточняющий вопрос.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу