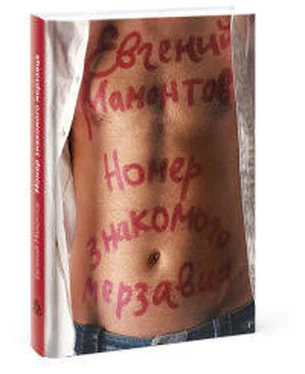Утро было свежее. Сверкали пышные развалы пестрых крон, и узкие белые облака в небе стояли по линейке, как военные корабли.
В магазине мне сказали, что Аня сегодня не работает, «звонила, что болеет». Я попросил разрешения воспользоваться их телефоном, и через час мы встретились на набережной за столиком под хлопающим полосатым навесом. Она, неловко улыбаясь, сняла темные очки, и я увидел замазанный тональным кремом синяк чуть повыше левой скулы. «Практически незаметно», — сказал, выслушав ее короткий рассказ. «А тебя, он сказал, убьет». Я кивнул. «Извини, что так получилась». Она три раза пересказала мне эту историю, каждый раз повторяя: «Нет! ну, Любка — стерва, я же ее предупредила, что ночую как бы у нее!» — «А он, ну, этот Эдик — твой парень?» — «Муж», — ответила она и стала пересказывать сначала, но вдруг расплакалась, порывисто встала, задев бедром пластмассовый столик, так что с него слетела кофейная чашка (не разбилась), мальчишка кельнер обернулся на шум, и компания через свободный столик от нас смолкла. И я с дурацкой улыбкой злодея (смотрите, как он довел девчонку!) хотел поднять закатившуюся чашку, но пошел следом за ней, уже пересекающей вытоптанный газон между двух уродливых гипсовых чаш для цветов.
Зная, что ложь — лучшее из дешевых утешений, я сказал, что теперь, со мной, ей нечего бояться, и крепко обнял за плечи, пока мы ехали в такси сначала по тенистой узкой улице с односторонним движением, потом мимо вокзала, а дальше проезд был закрыт, и постовой с жезлом заворачивал все машины, и мы развернулись и поехали по нижней дороге, вдоль путей, сначала под одним мостом, потом под другим, и у меня занемела рука…
Припомнив, что кроме алкоголя стресс снимает шоколад и горячая ванна, я достал для нее плитку темного горького с миндалем и открыл воду в ванной, вскипятил чай и вылил в него остатки конька.
Когда она выходила, мокрая, завернувшись в мое, не слишком большое, полотенце, я увидел еще несколько синяков на плече и… не успел отвести глаза, смутившись сердцем от этого зрелища. Она опустила полотенце и, сдерживая смех, говорит: «Здорово, да? Смотри, я как панночка». Что за прелестные существа! Даже кровоподтеки способны преобразить в татуаж. «Ты, молодец, — говорю, — легкий характер…» Я набросал ей подушек на диван, дал пульт от телевизора и поехал на урок.
Эти синяки пробудили во мне чувственную нежность, и на обратном пути я купил ей фруктов и пару бессмысленных дамских журналов. Только вспоминал не панночку, а голодную полячку из «Тараса Бульбы», в которую я был влюблен в семь лет. Подумал, что, может быть, вечером стоит сводить ее в кафе.
Когда вошел, в квартире было пусто, свет из окна падал на разобранную постель, в которой блестела смятая шоколадная обертка. Прочел записку «Поехала к подруге, позвоню вечером». Вымыл фрукты. Выдернул телефон из розетки и лег спать.
На закате вышел пройтись.
Шел, представляя себе этого Эдика то как грубое, в вонючих носках, животное, то как жертву, доведенную уже до края.
Я знаю.
Самая обыкновенная женщина может сделать с человеком примерно то же, что взвод оккупантов с обыкновенной женщиной.
На площади — не знаю уж, по какому поводу — бурлило ничтожное веселье. Натужная жизнерадостность выкриков ведущей, перебивки рекламы, басы электрогитары — местные музыканты настраивались потрясти публику децибелами. И никому не пришло в голову посмотреть наверх. Это было жутко. Гигантская, вздыбленная, как апокалиптический конь, свинцовая туча уже прищуривала солнечный свет, влив в него красноты… Так великан–людоед, ухмыляясь, склоняется над кукольной деревенькой.
И ощущение ничтожности мигом истаяло в моей голове, сменившись сочувственной тоской родства на фоне обреченности. Но я знал, что это только репетиция. Поэтому стоял, любуясь.
Страшный суд — главное достижение христианской эсхатологии. Его перспективой оправдана и искуплена самая пустая и ничтожная жизнь. Вроде вот этой, моей.
Я уже повернулся и медленно удалялся от площади, когда тяжелую пульсацию музыки стократно перекрыл треск первого раздирающего небо раската. И я улыбнулся, принимая сторону природы, как улыбаются, заслышав канонаду «своих».
Народ сбежался с трамвайной остановки под навес магазина, белые градины лупили по асфальту как витаминное драже, а я свернул в сквер, укрылся под деревьями. Я помнил это место с детства. Сколько раз я играл в тени этого памятника, дожидаясь, пока у отца закончатся занятия, и слушая скерцо, сонаты и прелюдии из распахнутых напротив окон. «Дитя гармонии», я был убежден, что она нерушима, может быть, благодаря соседству каменного человека с твердым кулаком. Он все защитит и, даже сожженный в топке паровоза, снопом искр, как некий Данко, осветит людям путь, а потом восстанет, как Феникс из пепла. И выйдет на поклон, совсем как в том спектакле, где моя мама играла его жену, Ольгу Лазо. А папа делал чтецкий моноспектакль про него под названием «Вот за эту русскую землю». И я слушал, замирая, как этот герой ходил по льду на Русский остров, один, безоружный, в школу прапорщиков–белогвардейцев, и сказал перед ними такую речь, что они в ту же ночь перестали быть белогвардейцами и стали хорошими. В общем, этот парень, этот Лазо, был у нас вроде семейного Прометея. И когда я потом узнал, что в топке он не горел, к прапорщикам не ходил, а партизанским движением руководил так, что в пору было давать ему внеочередное звание и крест, но от добровольческой армии… Ну, нет, я не был разочарован, просто усмехнулся. Пожалуй, я стал относиться к нему лучше. Нормальный человек. И, в общем–то, мученик–неудачник.
Читать дальше