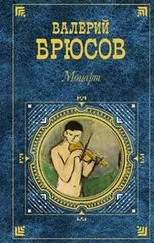В день отъезда газета с автографом куда–то запропала. Я отдал ключ Рае — она приглядывала за домом — и уехал, почти уверенный, что с Родиными никогда не увижусь.
Трехмесячное путешествие по забытым полустанкам, пустыням, степям и лесам в купейной секции с единственным попутчиком — а с ним все говорено–переговорено! — уже на вторую неделю скучнейшее предприятие. В дороге бывают мгновения, когда все женщины представляются порно–дивами. Родина была не худшей из них.
Мой напарник морил дорожную скуку плетением рыбацких сетей: через известный лишь ему метраж он распускал кружева из лески и снова ткал паутину бессмыслицы. Поэтому моя переписка с Ирой не большая странность, чем рыбалка Деда. Я отсылал письма на собственный адрес, в тайной надежде, что Рая доставит их Ирине.
Письма я составлял трудно по двум причинам. За сутки товарный поезд, бывало, пролетал расстояние, равное году путешествия копытного каравана первоописателей тех мест. И даже обладай я художественным воображением Роборовского, Козлова, Грум — Гржимайло, Рустикелла да Пиза, системными познаниями флоры и фауны Линнея, литературным даром Пришвина, мне бы стоило большого труда дополнить чем–то новым путевые заметки. (Правда, можно буквально копировать описанное другими, как это делал неподражаемый составитель крестословиц Набоков в романе «Дар».) Это первая причина.
Прыгающая строка от поездной качки обрывается в длиннющей горной кишке–тоннеле прибайкальских гор; тоннель охраняют автоматчики. Состав цепляется за карниз обрыва и плывет над хрустальной гладью озера; в тумане завис игрушечный катерок. В наступившем мраке тоннеля, или любуясь природой, я забываю, что хотел написать. Это — вторая причина отсутствия эпистолярных длиннот.
На стоянках мы разгоняли дорожную меланхолию работой: проверяли дизеля, подвагонные аккумуляторы и холодильные машины. Дед по самоучителю сконструировал мне приспособление для писания при тряске. Но этот манжет нарушал интимность пера и бумаги, и мозг так и не примирился с посредником.
Известно: у «влюбленных» мысли совпадают. Ира писала:
«Милая девушка. Она набрала мой номер, и ее брат, он сильно заикается, пригласил меня прийти. От моего визита у нее сделалось постным лицо. Теперь Рая оставляет твои письма в почтовом ящике. Избегает встречи со мной. Она, по–моему, влюблена в тебя. Прежде мне не приходилось общаться с глухонемыми. Дверь была предусмотрительно отперта. Девушка листала Карлейля. Закладкой служил твой снимок! Люди вообще не наблюдательны и, что глупо, высокомерны с теми, кого считают ущербными. Мне всегда казалось: немые читают адаптированные книги наподобие книг для слепых. …Твоя соседка вполне заслуживает счастья. И если бы не ее брат, честное слово, я не представляю, почему бы тебе и ей…» За пассажем Ирины я угадал ревнивое неудовольствие от присутствия чужой женщины в моей библиотеке.
В то же самое время я отвечал Родиной:
«Ребенку» исполнилось двадцать пять. В двадцать Рая вышла замуж. Но со смертью ее матери муж, хитренький сопляк, разумно выбрал между своим покоем и хлопотами о юродивом шурине… Рая закончила филфак университета и перечитала всю мою библиотеку. Отец, страстный букинист, как видишь, кое–чем со мной поделился».
На черном стекле вагонного окна неосязаемый лик Иры. Восемь часовых поясов разницы с Москвой. Могучий Амур — река рек. И только отсвет на фермах моста через бездну смоляной воды, уносящей блеск звезд и само время, обозначает пространство.
«Ты не любишь людей, но принимаешь их такими, какие они есть. Тебя раздражает Сережа. Ты терпишь меня. Я это вижу и не могу уйти! Из ревности! Из желания всех несправедливо отвергнутых доказать, что меня есть за что любить!
Все хорошие люди, — во всяком случае, мои знакомые, — люди с исковерканными, но не ожесточенными душами. В детстве ты не умел мстить. Таким и остался!»
Ира не сетовала на изъяны быта. Ее письма оживлял своеобразный юмор: «В 1790‑е «Письма русского путешественника», в 1891‑м «Остров Сахалин», а в 1990‑е ты!» Она переписала в письмах, — чтобы я запомнил! — свои любимые блюда: жареная картошка с грибами (я как–то обмолвился, что с зауральского детства предпочитаю эту пищу), цвет — зеленый, цветы — декоративные подсолнухи. Все это якобы для какого–то гипотетического конкурса, где ею придуманная комиссия выведывает, хорошо ли мы знаем друг друга.
Она решила, что мои любимые цвета голубой и желтый. «У тебя голубая чашка, голубое постельное белье, голубая гостиная! У изголовья светильник в форме желтого месяца». По словарю символов она расшифровала значения цвета и приписала мне мнимые качества — «великодушие и слепое стремление к власти».
Читать дальше