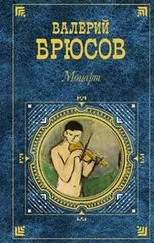Водитель, как во сне, на полусогнутых ногах сначала ковылял, потом семенил к разметавшейся фигуре. Я выскочил через калитку и склонился над ребенком. Он лежал навзничь на левой руке, выглядывавшей из–под правой подмышки краем кисти. Левая нога, как у цапли, изогнулась коленом назад. Его стекленеющие глаза были приоткрыты, и, мне показалось, губы ребенка звали мать. В ноздрях набухли рубиновые капли и заструились по губам и подбородку. Кукла с вывернутыми чреслами.
Водитель сделал руки ковшом, чтобы подхватить мальчика, но я оттолкнул парня.
— Не трогай. У него, возможно, внутреннее кровотечение. Вызывай «скорую».
Тот, причитая, побежал к перекрестку.
Редкие снежинки таяли на лице малыша. Я бросил на него куртку Гриши и осторожно подогнул полы. За спиной охали и толкались. А я понесся к дому. Промежуток времени от калитки яслей до дверного замка квартиры — погоня за стремительно ускользавшими секундами чужой жизни.
Двери отворила кургузая женщина. Из комнаты трещала музыка, звенела посуда, подлаивал смешок. Женщина придерживала дверь. В размытой голубизне ее глаз под толстыми линзами уже проступало нетерпение…
Когда она поняла, алкогольные румяна на щеках и на лбу заалели на серо–белой коже. Она пискнула: «Валера!» — и бросилась за мной к лифту. При каждом шаге ее грудь в вырезе белой блузы вздрагивала как студень.
Крупными хлопьями валил мокрый снег и скуфьей лежал на волосах подполковника. Его белая сорочка вымокла, ослабленный галстук криво висел удавкой, страшный взгляд обшаривал сына, толпу. Но он не терял головы: растолкал зевак, впихнул в круг медсестру–соседку в домашнем халате и тапках. Полная спина его жены тоже вымокла и напоминала спину тюленя, зачем–то перетянутого шлейками бюстгальтера. Женщина скорчилась на коленях над курткой, за капюшоном которой воском «дотлевало» детское лицо. Наконец, желтый микроавтобус реанимации с красным крестом притормозил с протяжным скрипом. Ребенок на брезентовых носилках, сосредоточенный фельдшер и родители мальчика скрылись в утробе машины. Через минуту дорога опустела. Лишь талое пятно на асфальте и грязные, затоптанные капли крови напоминали о трагедии. На тротуаре зеваки группками обсуждали происшествие. Дорожные инспекторы допрашивали водителя и свидетелей. Я подобрал куртку, и отправился за инвентарем Григория.
«Почему вы решили, что он погиб из–за вас?
Потому что я ненавидел его с первой минуты, как увидел в яслях!»
Вот все, что осталось от моих переживаний в тот вечер.
Саша, так звали мальчика, умер на дороге.
На вынос собрался едва ли не весь микрорайон. Обывателя всегда возбуждает жуть чужой смерти. У Шоймана оказалось много родственников. Они сгрудились у подъезда: мужчины навытяжку, с непокрытыми головами, женщины подвывали, стоило кому–то припустить. Коротенький гроб на табуретках; зеваки сзади тянули шеи; дети забрались на стол для домино во дворе, чтобы разглядеть подрумяненную маску среди белого шелка и красного драпа.
Мать вывели под локти. Она была в черном платке, в расстегнутом пальто и с распухшим лицом, словно наплавленным из парафина. Подполковник подошел к оркестру. Поговорил с товарищами, и те, тесня толпу, освободили пространство к автобусу. Офицер подставил ухо к губам старухи монашеского обличия, и мне померещилось, его плотно сомкнутый рот тронула улыбка. Тут же, словно хватившись, он пробежал глазами поверх голов и энергично отошел в сторону. Мне захотелось протолкаться к нему, заглянуть в его булавочные зрачки и шепнуть, как мне знакома эта бензольная легкость на лице, вытесненная изнутри свинцовой тяжестью.
Вечером я снова пришел к дому. На асфальте еще лежали раздавленные еловые лапы — траурный настил. В подъезде пахло чем–то, что безошибочно указывает на недавний приход смерти. Дверь в квартиру подполковника, как положено, была отперта.
Запомнились оттопыренные уши с розовыми просвечивающими хрящами Шоймана, черный волос на переносице, завершавший воссоединение бровей, — чего я не замечал прежде, — несуразная комбинация одежды: костюм и тапочки. Он было протянул обе руки, но ни одной не дал, отнял вовремя. И без того угрюмый взгляд его потяжелел, серое лицо почти почернело. По обычаю, он должен был впустить меня и нерешительно потоптался.
Из кухни вышла с блюдом салата женщина в черном. Ее губы кривила плаксивая гримаса, стекла очков увеличивали щели распухших глаз.
Читать дальше