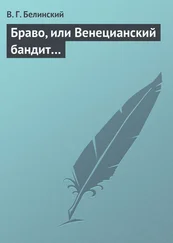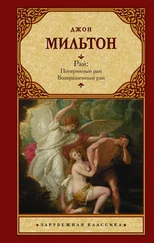А пока в нашей квартире стал появляться свежий реквизит в виде банок из–под пива, в шкафу завелись новые, похожие на бледных ленточных глистов модные галстуки, а на журнальном столике прописался немецкий иллюстрированный каталог, отражающий жизнь в потребительском ее формате. «Унитаз из Гамбурга, с подсветкой! — самозабвенно врал Брюхатый зачарованной матери. — В виде трона! Покрывало шелковое, под леопарда!» Отчасти я даже была благодарна ее божку: в его присутствии мать, изображая кроткую горлицу, не обрушивала ежедневно на наши с сестрой головы небоскреб ругательств, и нам не приходилось прятаться в ванной от припадков ее агрессии. Снова стал включаться по вечерам приемничек с заезженными грампластинками и петь томным голосом:
Мишка, Мишка, где твоя улыбка,
Полная задора и огня?
Самая нелепая ошибка —
То, что ты уходишь от меня.
Вваливаясь в квартиру, отчим некоторое время священнодействовал у одежного шкафа, пристраивая свои драгоценные костюмы, оставался в вытянутых трениках и майке, как и Капа, — нас он людьми, я полагаю, не считал, — после чего немедленно принимал горизонтальное положение перед телевизором (теперь — цветным). Голые розовые его пятки, как и прежде, похотливо налезали одна на другую на ручке дивана. Впрочем, кое–что изменилось: в городской бане отчим мылся теперь как начальник, хоть и мелкий. Десять лет мылся как заместитель начальника — надоело; элегантно–подлыми интригами скинул своего непосредственного и теперь хлестал пузо веником в кругу директоров. Громогласный, с ростом под стать голосу и беременным пивом огромным брюхом, он потреблял так много воздуха и света, что в нашей квартире сразу же стало нечем дышать. Проходя мимо меня, этот видный мужчина, который теперь руководил целым коллективом счетоводов и секретарш, вдруг становился на цыпочки, бесшумно подкрадывался сзади и, наклонившись к моим метру пятидесяти шести с высоты своего роста, произносил нарочито гнусавым, тоненьким голоском: «А когда твои баба с дедом уберутся в свой Изр–а–а-эль? Хорошо бы, и тебя с собой забра–а–али!» Если шутка удавалась, и я вздрагивала от неожиданности, а потом — от отвращения и ненависти, он громко и удовлетворенно ржал.
Названная в честь «Капитала» и Брюхатый, два мелких демона моего отрочества! Достигнув тогдашнего возраста моих обидчиков (а их уже отнесло к широкому устью), я могу позволить себе саркастическую усмешку. А тогда? У меня не было ни мужества, ни независимости, ни знания о себе; у меня не было ничего своего. У меня была только бабушка, но бабушка была далеко, и она не могла защитить, потому что сама зависела от других. Я понимала это уже тогда. Впрочем, моя семья была в городке самой обычной. Дело, однако, в том, что не все имеют глаза, способные разглядеть зло в самом распространенном его варианте — зло обыкновенное, житейское, бытовое. Спасительного «замыливания глаз» (безусловно, удлиняющего жизнь) я так и не приобрела.
Что же до Брюхатого и Капы, я не стала бы поминать этих неказистых кочегаров преисподней ради банального (хотя по–человечески и вполне понятного) сведения счетов. Тогда для чего я вызываю эти тени? А вот для чего: метаморфозы, ведущие к великому оледенению или, напротив, всеобщей паровозной топке, не в состоянии уничтожить их тараканью породу. Похоже на то, что именно эпохальные катаклизмы на землях от Байкала до Буга и послужили теми условиями естественного отбора, в которых сия порода закалилась, расцвела и дала обильный приплод.
Вокруг них — неизменно яркий электрический свет, накрытый стол, громкая музыка. Они всегда в хорошем расположении духа и, шутя, снисходя к твоей малости, тычут в тебя ногтем указательного пальца, точно дворовую считалку повторяют: «Куколка, балетница, воображуля, сплетница…» Они уверены в своем праве потреблять и пользоваться, сами же ничего не дают жизни: ни музыки, ни хлебного колоса, ни заботы о ребенке; даже профессия их связана с какой–нибудь благоглупостью и ахинеей, убери их — и в мире лишь воздух чище станет. Эти человеческие ничтожества уселись прямо на загривок жизни, крепко так оседлали жирными своими задками. Как можно посметь взять здесь хоть крошку, если сам ничего не создал? А ведь они хватают пригоршнями. Ненасытный инстинкт заставляет их пожирать все, что не есть они сами, а то, что невозможно сожрать, — уничтожать. Они агрессивно внушают всем свое «я», и люди поддаются гипнозу, но Всевышний… Неужели и Он на стороне заскорузлых? «Кто смел, тот и съел», «наглость — второе счастье»…
Читать дальше