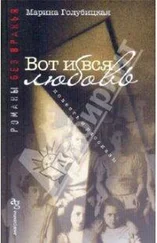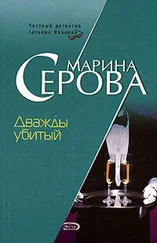Теперь я читаю его книжку, как разведчик. Ищу хоть что–нибудь «про любовь», не встречаю и с надеждой приступаю к роману, к конспекту романа, как он его назвал. Герой конспекта, писатель Омутов, долго стоит перед зеркалом, выбирая имидж: пальто, хайратник, перо за ухо, затем отправляется ошарашивать трамвайных пассажиров. Он гуляет якобы по Перми, но я, пермячка, не узнаю родного города. Он описывает улицы Свердловска, кружит и кружит в окрестности моего дома: в редакции, на рынке и на площади — мне никогда не хотелось здесь гулять.
Я впервые прилетела в Свердловск с трехнедельной Машей, Леня заканчивал аспирантуру, я спряталась к маме под крыло. Не так много я сделала в жизни поступков, ради которых хотела бы повернуть время вспять. После полнокровной московской юности запереть себя в чужом городе, в суетливых днях одинокого, какого–то надрывного материнства… Я не знала здесь ни домов, ни названий улиц. Родители переехали лишь недавно и перед работой всякий раз обсуждали маршруты — папе нравилось объяснять, как ходят трамваи. Я слушала эти разговоры, как рассказы о дальних странах. Однажды, совсем уж затосковав, я вырвалась за пределы двора и с коляской пошла на проспект, пусть ребенок подышит городом. Был теплый июльский вечер, зажглись фонари. Из кинотеатра выходили люди, распространяли запах духов и сигарет, прищуривались, озирали реальную жизнь, окликали своих. В них постепенно угасал просмотренный фильм, как гаснет в кинозале надпись «Выход». Я попыталась затесаться в толпу, прислушаться к разговорам и смеху, я постояла на остановке. Освещенные окна трамваев подрагивали, казались мне чередой заманчивых кадров…
Как только, с чем только и куда только с той поры мне не приходилось передвигаться по Свердловску! С санками, лыжами, Зоей и Машей в переполненном грязном троллейбусе, с Диггером в наморднике, с костылями для Лени, в намокающих валенках, с флюсом, с бабушкой в скорой помощи, цветами в такси, клещом за ухом, с анализами, тортом, байдарочными веслами, с умирающей черепахой, гуманитарной помощью, с ожогом живота, платьем для утренника, фанерой в кузове, мешком раствора в багажнике иномарки. И в красивой шубе, и в дорогом макияже, с солидным мужем, в перекрывающих друг друга облаках французской парфюмерии… Одного только не было в моей свердловской жизни: просто так, куда глаза глядят, с подругой, с приятелем, а еще лучше одной, растворяясь в толпе, как в Москве, как в Париже…
— Ну как же, Иринушка, ты на меньшее не согласна, тебе Париж подавай! — Он приехал из районного городка, для него когда–то, наверное, и Свердловск был Москвой.
— Что же делать, Игорь, если здесь я только фукцирую .
— А это, ласточка, кто как себе выбирает. Так живешь — значит, хочешь так жить. Как так люди живут, будто смерти нет вовсе!
Тему смерти я с ним обсуждать не люблю. Темы я обсуждаю с Майоровым.
— Знаешь, Андрей, — сказала я как–то ночью, свернувшись в кресле, — даже если б мы захотели друг друга и ты не был бы православным, не смотрел бы, что Леня — твой друг, что ты женат, и я бы на это не смотрела, нам секс ничего бы не дал. Согласен?
— Скажи, почему.
— А о чем бы мы говорили после , шептались, смеялись — после первого раза, когда можно наконец не таиться, в тот момент, самый лучший, когда в фильмах закуривают…
— Да, пожалуй. У меня ведь телефон на подушке.
Теперь нашей темой стал Чмутов — стал потихонечку, невзначай, я исподволь его поругивала, чтоб Майоров хвалил, и улыбалась, заслышав его имя.
— А-а, ты тоже подсела на Чмутова, — догадался однажды Майоров, — и Фаина его постоянно снимает.
Фаинка сняла про Чмутова несколько передач, и теперь Чмутов сам пытался снять Фаинку, Чмутов делал ей очень конкретные предложения, но она была смолоду сыта своим режиссером, компостировавшим в трамваях комсомольский билет и разгуливавшим по городу в зеленых колготках. Я пыталась исподволь втолковать это Чмутову. Он быстро вычислил наш телефонный треугольник.
— Полтора часа с Фаиной, я засек, — говорил он мне вместо «але, Ирина». — Мы с Майоровым вас застукали.
Он читал мне по телефону стихи, много стихов, пропевал каждый звук, любовался словом. Он любил то, что читал, исполнение было эффектным, но стихи становились похожими, как римские храмы, которые пробегаешь с экскурсоводом. У него были свои кумиры: Мандельштам, Высоцкий, Еременко. Про любовь к Еременко я вычитала в «конспекте романа» и все хотела, но никак не могла раскопать в библиотеке сборник. Он почему–то ненавидел Пастернака… Ни у меня, ни у Фаинки в те дни еще не было Интернета, но мы с трудом дозванивались друг до друга. Чмутов вписался в наш клуб, превратился в главного гостя, свежую кровь, телефонный стимулятор. Он обзванивал всех перед выставками и фестивалями, первым отзывался, если видел кого–то по телевизору. Хвалил возбужденно и щедро, критиковал осторожно, не увлекаясь. Он западал на таланты, будоражил всех, бредил проектами, хотел шума, славы и денег — необязательно для себя.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу