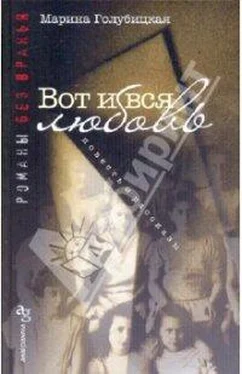Как светятся ее глаза… Она радуется, она все время переспрашивает.
— Ну, совсем задарили! Книги!.. Ленечка, что это за журнал? С твоей статьей? А это Зоечка послала? И рисовала, и свои стихи? Какая умница! И ведь талант? Я оставлю это на закуску…
Я оглядываю ее жилище, вспоминаю строки из писем. Сижу в парке… пишу не за столом… Стола нет, сидеть негде. Белые стены, голые, с дырками от гвоздей — здесь когда–то висел ковер предыдущих жильцов. Скотчем приклеены три детских рисунка.
— Ася рисует. Уж так она радовалась, когда раздобыли раскладушку! Так радовалась, что сможет здесь ночевать. Придет, свернется. Десять лет, а все еще любит сказки …
Где же книги? Любимый Диккенс ? Где ее вещи? Вижу шкаф для платья и почему–то не сомневаюсь, что он пуст. Пустая пластмассовая этажерка. А где хотя бы какой–то архив, где фотографии, письма, документы?!
— Ну, что, сначала чаю? Я напекла диетических пирогов… с рисом. — Ей и самой это смешно. — Будем есть или пойдем на волю?
— На волю!! Мы сытые…
— Только вернемся, ладно? Посидим за чаем, Виталик должен придти.
Теперь она держит нас под руки, тросточку забрал Леня. Мы останавливаемся перед скамейкой у подъезда. Здесь, как в школе на юбилее, сидят в ряд интеллигентные старушки. Кто с рыжими, кто с черными кудрями — у них бусы, у них золото на теле .
— Здравствуйте, Елена Николаевна! Ваши гости?
— Да. Не забыли свою учительницу.
Они сыплют вопросами.
— Вы действительно из России? Давно? И как там? Как вам живется?
— Там пока еще холодно.
Повторяют завистливо:
— Холодно… А сюда переезжать не хотите?
— Нет.
— И правильно! Какие молодцы! У вас есть дети? Трое? С кем они остались?
Елена Николаевна улыбается и, чуть отстранившись, оценивает нас. Я впервые слышу, как она хвастает:
— Они прекрасно выглядят для своего возраста. Располнели, правда, но выглядят хорошо. Обещали — и вот приехали. Все–таки тридцать лет в школе.
— А я сорок, — встревает крашеная брюнетка. — Преподавала химию еще в тридцатых… В Виннице были такие проблемы с лабораторией…
Мы торопимся остаться наедине. Идем в парк, садимся на ее любимую скамейку. Здесь хороший обзор и видна арабская деревушка. Тень от пиний, и ветерок, и цветки, вроде кашки и лютиков. Я разглядываю ее лицо, ее морщины. Это не печеное яблоко — растрескавшаяся, иссушенная почва. Или старое дерево. Но она же всего на семь лет старше моей мамы! Моя мама не выйдет без косметики — это крайность, но хотя бы кремом, хотя бы чуть–чуть… Почему она так с собой
обходится — с человеком, которого я люблю ?! Вдруг замечаю руки — искривленные, распухшие в запястьях… Я смотрю, а она говорит — без предисловия.
— Приехал мой Виталик к ученику Лотмана, а его не ждут — пушкинистов в Израиле хватает. Алмагуль, вторую жену, не выпускают, в Алма — Ате какие–то проволочки. Взяли Виталика официантом в кафе, и то потому, что знал английский — все же седьмая школа. Официантом, в кафе — Виталика! Он и кофе–то не мог себе налить, не облившись. И начал он по ночам звонить: «Мама, приезжай, мне плохо!» Я спрашиваю: «Как тебе плохо?» Он ничего не отвечает. И снова звонит: «Мама, мне плохо! Мне очень плохо!» Я спрашиваю: «Что с тобой происходит?» А он только: «Мама, приезжай!» Сначала думала, его заставляют гиюр проходить, а потом совсем другого испугалась… — она переводит дух. — У него был друг, Саша Бренер, очень талантливый человек…
— Бренер? — оживляется Леня. — У которого «Обосанный пистолет»?
Она морщится.
— Саша был очень хорошим поэтом. Его так хвалил Вознесенский… Но потом эти постмодернисты сбили его с пути, и он стал гадости прославлять. Наклал кучу в одном европейском музее, стоял над ней, читал стихи про какашки, а в Голландии испортил шедевр, и его в тюрьму посадили… Я испугалась, вдруг с Виталиком что–то похожее, и засобиралась. Но пока бумаги выправляла, он устроился в музей Катастрофы. Переводчиком. И Алмагуль с Асей выпустили. Она, конечно, умница, Алмагуль, специалист по серебряному веку…
У меня перехватывает дыханье от ревности. Серебряный век… Такое однажды было. На перемене появились две выпускницы, одна незаметная, другая с хипповой лентой на лбу. Елена стояла с ними, смеялась, слушала… мне было трудно на это смотреть. Она зашла на урок, сияя:
— Что мне сейчас выпускница рассказала! Она поступала на ленинградский филфак, экзаменатор морщился, вздыхал, потом спросил: «Ну, а кто ваш любимый поэт?» Тут–то, говорит, я ему своего любимого Решетова и выдала! Он удивился: «Милая, да вы мне открыли поэта!»
Читать дальше