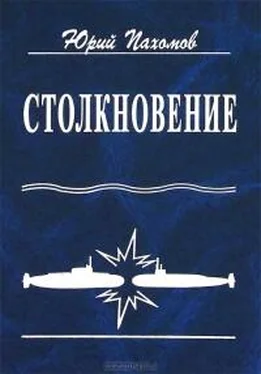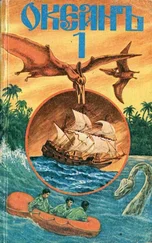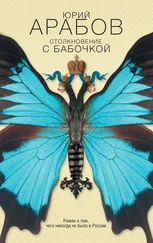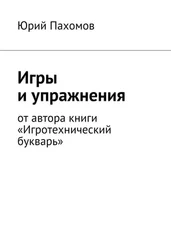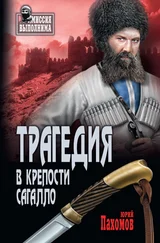— На уровне середины семидесятых годов.
— История как раз и начинается в семидесятых. К этому времени уже стало ясно, что наши гидроакустические комплексы в разы, точнее, в десятки раз проигрывают американским и нужно срочно решать этот вопрос, иначе «ядерный щит Родины» — фикция, не более того. Но ученые из НПО и слышать об этом не хотели, у них своя, незыблемая концепция. Откажись от нее, и сам докажешь свою научную несостоятельность.
— Погоди, мы же плавали и имели контакт с американцами.
— Ну и сколько длился контакт? Минуты! Если честно, успел бы ты привести боевые средства в готовность за это время? Ясно, нет! Слушай дальше. Когда ученые мужи отпали, за дело принялись флотские энтузиасты, талантливые умельцы, рукоделы. И главный закоперщик среди них — выпускник нашего училища старший лейтенант Курышев. Этому старлею удалось сколотить нештатную группу, в которую вошли гидроакустики, разведчики, вычислители — все подводники. Работой группы Курышева заинтересовались первый заместитель главкома, командующий Северным флотом и еще ряд адмиралов и каперангов. Умельцам был дан карт–бланш, выделили место во флотской лаборатории шумности, дали кое–какие средства, а главное, предоставили возможность прокатиться по стране и лично изучить все, что делается по столь важной проблеме.
Эти пацаны пробились к академикам Глушкову, Колмогорову, и те их встретили с интересом, поддержали, помогли раздобыть редкие в те годы компьютеры и другие штуки, необходимые в работе. Курышев разработал математическое обоснование, молодцы создали штуковину, стыковали анализатор с простеньким компьютером, и получилась чудо–приставка. Уже первые испытания дали поразительные результаты: штатный гидроакустический комплекс «Рубикон» потерял цель уже на расстоянии двадцати кабельтовых, а приставка вела лодку–мишень до семидесяти пяти кабельтовых, вела бы и дальше — сдох отечественный компьютер. Поставили два компьютера, провели повторные испытания, и с помощью приставки удалось обнаружить лодку–мишень на расстоянии ста сорока кабельтовых, а атомную на расстоянии более трехсот кабельтовых. «Рубикон» показал результаты в пять раз меньше. Как тебе?
— Круто!
— По флоту выходит директива по установке на лодках этой самой приставки. Дело–то простое, не требующее больших затрат: подсоединил приставку к действующему комплексу, и начинаешь слышать супостата в несколько раз лучше. Что еще нужно? Вот тут–то и начинается главная интрига. Лодки, оснащенные такими штуковинами, начинают засекать иностранные субмарины в наших территориальных водах, а это означает, что нужно принимать решение и, прежде всего, политическое: шандарахнуть торпедой по наглому нарушителю границы или в очередной раз промолчать и утереться? Раньше–то была тишь да гладь, да бодренькие рапорты наверх: морские границы на замке, подводный щит страны непробиваем. А американцы уже в Мотовском заливе плавают, с помощью приставки их не раз засекали. Над Курышевым и его группой стали сгущаться тучи. Ученые и промышленники выказывают недовольство, старший лейтенант с его новациями им как кость в горле, ученых активно поддерживает военный отдел ЦК, деятели которого не раз уже поражали моряков своей некомпетентностью. Стали помаленьку избавляться от неугодных. Результаты испытаний приставки были названы шарлатанством, к тому же имеющим вредные последствия: «увести лучшую в мире советскую гидроакустику с правильного пути». Флот упорствует, все испытания проводит тайно. Наши подводники гребешком прочесывали океан, и в этот гребешок попадали американские атомоходы, и контакт с ними на этот раз длился не считанные минуты, а более десяти часов. И обнаруживали их с помощью приставок с расстояния четыреста кабельтовых. Каково? А знаешь, чем кончилось? Высоколобые научные эксперты, к которым все- таки попали результаты похода, в один голос заявили: «Этого не может быть, потому что не может быть вообще». Все в наших лучших традициях: генетика и кибернетика — чепуха, лженауки и сплошное мракобесие. Когда началась перестройка, Курышева со товарищи турнули с флота, даже пытались отдать под суд, но ребята они упертые, копошатся, что–то там делают, а какой прок? Ничего не меняется.
А меня ждало еще одно «столкновение», только уже не в Баренцевом море, а в семье. И по разрушительной силе было оно посильнее первого.
Маришка большую часть времени жила не при нас, родителях, а с бабушкой и дедушкой. Какое–то время обитала в школе–интернате в Мурманске, школ с английским уклоном в Видяево не было. А без этого самого уклона, по мнению Маши, нынче далеко не уедешь. В Мурманск не наездишься, более ста верст, вот и вызревала деваха без родительского внимания.
Читать дальше