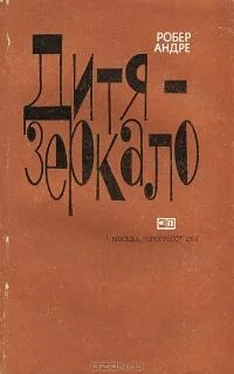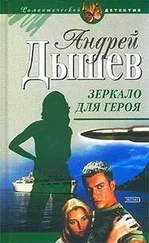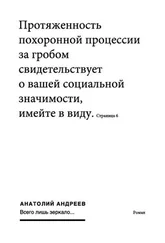Подобные отступления и отклонения от героических мифов были непонятны старшему поколению, для которого войны с немцами имели место всегда, находясь в одном ряду с явлениями природы, а мир казался лишь передышкой между двумя очередными штурмами, и бывало даже, что прабабушка, которую часто подводила память, вдруг, в самый разгар каких-нибудь хозяйственных дел, спрашивала у дочери: «Скажи, Клара, война уже кончилась?» Или, бывало, дядя принесет газету и развернет ее, чтобы наскоро пробежать заголовки, а Люсиль, услышав за спиной шуршанье газетных листов, не поворачивая головы, осведомится самым будничным тоном, словно спрашивая о погоде: «Что там ва шум, уж не война ли?» А перед самым сном исторические даты особенно сильно путались у нее в голове. В эти минуты война была здесь, была вокруг нас, даже не война, а обе войны, свидетельницей которых Люсиль явилась, и, как это часто случается со старыми людьми, первая война, война ее юности, представлялась ей особенно грозной, война семидесятого, со вторжением, осадой и фран-тирерами, величественная эпопоя, которая казалась ей куда болео возвышенной и красочной — достаточно вспомнить тогдашнюю кавалерию, яркие мундиры, славные атаки, а главное, финал той войны, — чем кротовая возня пехотинцев четырнадцатого — восемнадцатого годов. И красивых легенд в первую войну тоже было побольше. Я с живым любопытством слушал ее рассказы о неизменно безжалостных пруссаках или о баварцах, которым иногда бывали доступны человеческие чувства, — нужно ли говорить, что слово «немец» начисто отсутствовало в ее лексиконе, — о военных неудачах императора, которого один раз она видела собственными глазами во время парада, о предательстве маршала Вазона, наконец, об осажденном Париже и о пресловутом голоде, когда парижане съели всех домашних животных и даже всех крыс. Должен признаться, что эта чудовищная кулинарная сторона интересовала меня больше всего. Проявляя достойное сожаления отсутствие патриотизма, я готов был перескочить через все подвиги, совершенные нашей армией, несмотря на предательство, и поскорее перейти к удручающей картине опустевших парижских лавок, где уже не было красных мясных туш, которые я иногда вижу, когда меня берут с собой за покупками, и где, как я представлял себе, на прилавках лежали мохнатые зверьки с длинными голыми хвостами, к которым привязаны были бумажки с ценами.
— А сама ты их ела?
— По правде сказать, не ела, но я знала, что были люди, которые…
Неуверенность разочаровывала меня. Сморенная сном, Люсиль вяло ссылалась на слухи, и мне приходилось самому заполнять пробелы в ее рассказе, но скоро и меня одолевала сонливость — может быть, как раз оттого, что перед моими глазами сновали бесчисленные грызуны, заменяя собою овец, которых рекомендуется считать при бессоннице.
Я видел рядом с собой профиль полишинеля, меня убаюкивало хриплое старческое дыханье, и я погружался в липкое месиво, где чумные орды серых крыс перемешивались с ордами зеленоватых пруссаков, где Бешеная Корова скакала диким галопом со своим негодяем (читай: со мной) па рогах и где Бедокур напрасно протягивал руки к своей несчастной матери, которую он обездолил. «Скверный сын, ты убил свою мать!» — завывал ночной ветер, Па Гюс, а может, Кенсар-Волшебная-Дудочка вел за собой через чащу зачарованные ватаги птиц и зверей, а меня обволакивала мягкая и жаркая, точно наседка, постель, и, вырываясь, порою из вихря моего мятущегося зверинца, толо мое разрывалось па сотни кусков по приказу феи Доброе Сердечко, которая совсем по заслуживала такого славного имени; время от времени в голове у меня прояснялось, и я вспоминал о ночи, что стоит за окнами и пробивается сквозь щели в ставнях желтым светом, словно мерцают удлиненные кошачьи зрачки, о безмолвной ночи, от которой меня так надежно защищает и валик пуховика, и лежащее рядом дряхлое, с чуть кисловатым запахом тело, и я слышу, то ли во сие, то ли наяву, какое-то бормотание, и сквозь него до меня долетает ласковый голос: «Спи, мое счастье», и, прежде чем окончательно раствориться в своем утробном бытии, я с наслажденьем смакую это чудесное слово.
Я просыпаюсь обычно, когда все уже встали. Комната опять обрела свой дневной вид, и мне жаль, что я опять пропустил переход от ночи к дню. Мне никогда не удается увидеть, как встает Люсиль. Зубов в стакане уже нет, прабабушка в нижней юбке занимается уборкой. Вскоре в комнату врывается бабушка: непричесанная, в халате, она кидается ко мне и целует так горячо, будто я вернулся из экспедиции в дальние страны.
Читать дальше