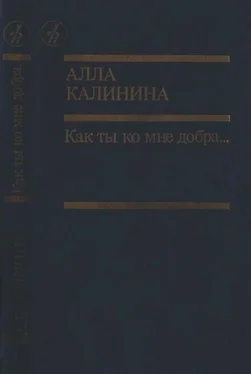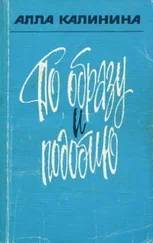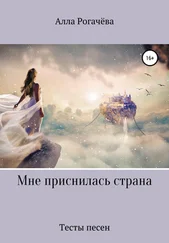Только то, что принято называть «личной жизнью», по-прежнему оставалось неясным белым пятном на его четко спланированном будущем. Как и раньше, он никого не любил, и мечты его о любви были сумбурны. И в общении с женщинами он был так же скован и беспомощен. Но он уже, сам не догадываясь об этом, сделал первый шаг к своему будущему счастью — вечерами, устав от работы, он стал ездить на учебный закрытый каток Центрального парка. Здесь, узкоплечий, раскрасневшийся и одинокий, в длинном пальто и черной котиковой шапке, толкая перед собой железный детский стульчик, упрямо все ездил и ездил он по маленькому каточку, пока не перестали подгибаться в щиколотках ноги и он не решился наконец оторваться от опоры и, балансируя руками, сделать первый и робкий самостоятельный круг. Но ему так и не довелось научиться кататься — он встретил Вету. Однажды увидел ее в раздевалке, и с этого дня он был захлестнут постоянными мыслями о ней, то ли мечтами, то ли воспоминаниями, этого он не мог разобрать. Он только чувствовал, что она прекрасна, всегда была прекрасна, даже тогда, много лет назад, когда была еще совсем ребенком, а он думал, что любит Наташу, и пропустил это чудо мимо себя. Но все-таки он ее помнил, так хорошо и подробно помнил, тоненькую, мальчишески стройную, удивленную. Неужели уже тогда он любил ее? Возможно ли это? Да ведь она и не изменилась вовсе, только что стала взрослая. Роман теперь ездил на каток почти ежедневно, подкарауливая ее и издали наблюдая, как она, раскрасневшаяся, с бледно-золотистыми кудряшками, выбившимися на лоб, одна носится по темной ветреной набережной, то исчезая в дальнем сумраке, то снова появляясь в свете фонарей, в мягком сером кружении мартовского снега. Когда он наконец решился подойти к ней, в его душе уже вызрела уверенность, что в этой девочке заключена его судьба. Он хотел бы, ну конечно, он хотел бы, чтобы такая была у него жена. Не теперь, не сейчас, позже, он не хотел пугать ее, но одно только предчувствие будущего, которое уже родилось и длилось, одно только оно было уже счастьем.
* * *
Так много переменилось в Ветиной жизни и в то же время ничего не изменилось. Так же ходила она в школу, училась, дружила с девчонками, читала, сидела на собраниях, носилась на «норвегах» по раскисающему последнему мартовскому льду, но все уже было другое, все имело другой вкус и другой смысл, и хотя эта перемена не была резкой, Вета ясно ощущала ее необратимость и с готовностью принимала новый свой образ радостной и спокойной здоровой уверенности.
С Ромой они обязательно встречались по субботам, а иногда еще и среди недели, а если не встречались, то Рома звонил, и это было почти то же самое. Она слышала его высокий, хрипловатый счастливый голос, его короткий смех, он был тут, он создавал ощущение надежности всего, что между ними происходит, а это было самое главное.
Они гуляли с Романом по улицам, болтали, ходили на выставки, иногда в кино, но самым волнующим для Веты было посещение консерватории, потому что ей показалось, что здесь она впервые соприкоснулась с сокровенной, интимной частью Роминой души, с его внутренней жизнью, перед которой она робела и смущалась.
Все здесь волновало ее и казалось исполненным значения — и приближение к круглому подъезду, где взволнованные лохматые юноши метались, выспрашивая билеты, и длинная чопорная мраморно-зеркальная цепь раздевалок, где, снимая пальто, Роман невольно превратился в одного из этих людей, что толпились здесь, тщательно одетого в черный костюм, с тугим галстуком, с плотно приглаженными густыми светлыми волосами и даже слабым запахом духов, подчеркивающих необычность обстановки. Она терялась перед ним, ее нарядное платье вдруг показалось ей безвкусным, и она, краснея, в ужасе взглянула на него и сама ухватилась за его руку. А потом была белая широкая в коврах лестница наверх, в сверкание люстр, в темную глубину портретов, в сияние толпы, нарядной не столько костюмами, сколько торжественным возбуждением, ощущением приподнятости, строгого праздника и духовного сообщничества касты. Они медленно плыли в толпе, подчиняясь ритуалу, и то, что здесь был буфет, который так весело и естественно заполнял антракты в театрах, показалось Вете почти кощунством. А потом распахнулись высокие двустворчатые двери, они вошли в белый с золотом и красным плюшем зал и сели. Вета подняла голову и встретилась взглядом с пристальными глазами композиторов, молча глядящих на нее сверху из овальных рам. Большинство из них она не знала, и Рома шепотом называл их. Так вот какие они! Потом она стала смотреть на сцену, где все уже было приготовлено к концерту. Задней стеной ее были пышно обрамленные занавесом громадные трубы органа, которого Вета никогда не видела, но сразу узнала и догадалась, что это он. И вдруг на сцене открылась боковая дверь, сцена осветилась ярко, и на нее несмело и как-то боком стали вытекать черные оркестранты. Вета даже не знала, что в наше время существуют люди, которые каждый день как нормальное платье носят фрак. Но вот они были перед нею и с легким шумом и шелестом рассаживались по своим местам, пробовали инструменты, перешептывались. А потом все замерли, изготовились и стали смотреть на дверь, и когда напряжение наросло до невозможности, оттуда показался и стремительно пошел между оркестрантов дирижер, плотный, решительный, с набыченным лбом и кучерявящейся на две стороны купеческой шевелюркой. Он коротко раскланялся с залом, повернулся к нему спиной и поднял короткие сильные руки. И вот из долгой и напряженной тишины выплыла тихая, едва различимая мелодия скрипок.
Читать дальше