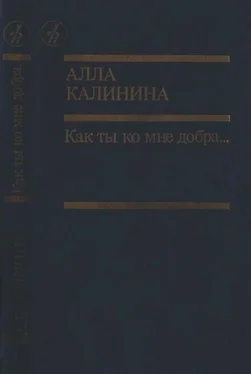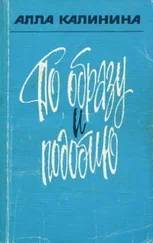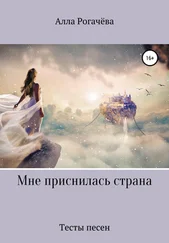— Обязательно, Ниночка, о чем речь!
И вдруг, прижавшись к нему грудью и глядя на него снизу вверх горячечными серыми глазками, она торопливо зашептала:
— А мне больше ничего и не надо, я не претендую ни на что, буду ждать, и все, мне без тебя все равно жизни нет…
Елисеев отшатнулся в ужасе. Во что же он превратился здесь, в штатного любовника, в утешителя всех страждущих?
— Ну это уж ты слишком, Нина, — сказал он, сдерживая ярость, еле слышно, — и что это ты со мной на «ты» перешла? Вроде не было к тому причин. Ты, уж, пожалуйста, возьми себя в руки. Нельзя так. — И, оторвавшись от нее, медленно зашагал по ступенькам. Ему мучительно хотелось оглянуться, не было ли кого-нибудь рядом, не видел ли кто, но он сдержал себя, вышел на улицу.
Была поздняя осень, холодно, он поднял воротник и зашагал к троллейбусной остановке. Ему вдруг остро захотелось домой, завалиться сейчас на диван, под плед, с книжкой. Что мешало ему до сих пор и что в этом было невозможного?
Лиза писала письмо Ире:
«Здравствуй, дорогая Ирина!
Пишу тебе просто так, ни о чем. Просто хочется поговорить с тобой, увидеть хотя бы мысленно твое внимательное лицо, поплакаться тебе на что-нибудь в жилетку, хотя плакаться мне совершенно нечего, живу я хорошо, просто замечательно. И все-таки тебе такой жизни не желаю, ты у нас еще совсем молодая, а я состарилась. Да-да, не смейся надо мной, чувствую себя старой и от этого почему-то счастливой. Все прошло, все осталось позади. От любви, от молодости, от глупых надежд — от всей этой суеты в конце концов так устаешь, и тогда возникает такое сладостное, такое мучительное стремление к чистоте, к прошлому, к детству, к тебе, моя дорогая сестренка!
Что же это еще, если не начало старости? Ну и что же? Старость, такая старость — прекрасное время постижения и свободы. Как хочется думать и говорить обо всем на свете и все понимать до конца, до самых космических глубин, до рождения и смерти. Только вот жаль, говорить об этом совсем не с кем, не знаю даже, поймешь ли ты меня, ведь ты еще такая молодая, такая деятельная и полная надежд. А мне бог не послал своей нивы — на работе все идет гладко, дома порядок, Оленька учится кое-как, брак у меня счастливый, денег почти хватает. Даже здоровье по-прежнему хорошее. И я прекрасно понимаю, какое все это великое счастье, но вот куда девать себя — не знаю. Хочется с кем-то поговорить, но очень боюсь тебе наскучить. Это будет для меня настоящая беда, даже мысленно не к кому будет обратиться. Ты не удивляйся, что я так пишу, с Женей у нас все нормально, но ты ведь знаешь, он такой цельный человек и очень любит свою работу. Он весь — там. И я стараюсь не мешать ему…»
Лиза поморгала, подождала, пока стекут слезы.
«…Ты знаешь, что я придумала? — торопливо писала она дальше. —Я теперь учусь жалеть плохих людей. Чем хуже человек, тем его жальче. Только не смейся, пожалуйста, надо мной. Это совсем не чудачество. Ты представляешь, как его корежит и мучает злоба, корысть, зависть, каким ядом полон он каждый день и каждый час. Разве это не достойно жалости? И еще я жалею одного человека. Знаешь, кого? Нашу маму. За то, что она оттолкнула, отдалила нас от себя. Наверное, она этого даже и не чувствует, но мне кажется — это не важно, я-то знаю, что она потеряла очень много, целых два огромных мира, а может быть, и гораздо больше, и у меня за нее болит душа…»
Лиза выглянула в окно, обметанное снегом, и словно бы очнулась. Опять зима, как же неожиданно, быстро она нагрянула! Как летит время! Мелькают дни, месяцы, вот и годы стали уже мелькать. Жизнь побежала под горку. О чем она пишет Ире? Разве это письмо? Взять и немедленно порвать. О таких вещах нельзя говорить, каждый в свое время сам пройдет через это тихое светлое отчаяние. Ничего страшного, возраст. Раньше на работе она была чуть ли не самая молодая, а теперь новые лаборанточки говорят про нее вкупе со всеми — «наши бабки». Что ж, они правы, мужчины давно уже не оглядываются на нее, но ведь в этом нет ничего страшного, ей совсем не нужны чужие мужчины, у нее есть своя семья. На работе, правда, дело обстоит сложнее, все так удивительно переменилось за эти долгие годы. Больше она не лезла в свою лабораторию по ржавой лестнице, институту построили новый корпус, даже несколько корпусов, и у них теперь было роскошное венгерское лабораторное оборудование, столы с красивыми замочками и краниками, шикарные камеры для окраски, приборы. И жили они теперь не так, как раньше, на отшибе, а среди людей, в одном здании с другими лабораториями и отделами и от этого не казались больше заброшенными и никому не нужными. Все вокруг кипело. От прежней жизни только и осталось что старая проходная, которая раньше была такой замызганной и убогой, а теперь таинственным образом преобразилась, подравнялась с другими домами и стала выглядеть солидно, словно была теперь уже не старьем, а стариной. Да и вся их улица невероятно, сказочно преобразилась, в сущности от нее осталась одна только их, правая, сторона, да и на той из старых домов сохранилась чуть ли не одна их проходная, а за проходной, вместо забытого богом кривого, почти деревенского проулочка, с дощатыми заборами, старыми деревьями и трамваем посредине, открывалась теперь огромная многорядная магистраль, уставленная с двух сторон высокими современными башнями с кафе и магазинами внизу, и многие из них уже жили и светились по вечерам, а другие торопливо достраивались и прихорашивались, чтобы не сбивать с толку и не портить современного ансамбля. По магистрали мчались потоки машин, и даже у их института была своя площадочка для парковки, и на эту площадку ставила теперь и Лиза свой новенький красный «жигуленок».
Читать дальше