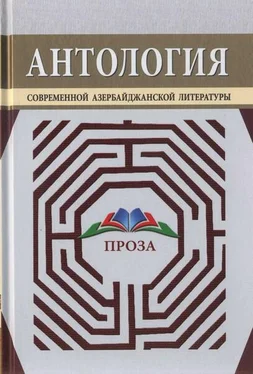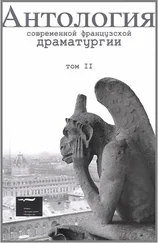Игорь Железов уже имеет одну «ходку».
Смягчился. Теперь он как воск. Обжегшись на молоке, на воду дует. Прежние его повадки и нынешние — небо и земля. Больше не выпендривается. От былой революционности осталась лишь бытовая критика.
Да разве стал бы врач сшибаться лбами с Леонидом Ильичем — с великим Брежневым?
Росту он высокого, потолки головой задевает. Говорит: «Я должен уйти из скорой помощи. В этих низких хрущевках, придуманных низкими людьми, невозможно посещать больных. Московские дома должны быть снесены и отстроены заново, и все». Неоднократно он задевал головой лампы; едва не обжигая лицо. Потолки тюремных камер, в которых он сидел, выше, чем в этих квартирах. Да и с архитектурной точки зрения гораздо лучше.
Игорь задевает в основном рабочих-строителей. Просто житья им не дает. Никто — начиная с архитектора и заканчивая штукатуром — не способен спастись от него. Хотя его мнение, в лучшем случае, — составная часть общественного мнения. Оно не особенно влияет на принцип демократической централизации в стране; то есть, лучше сказать, не влияет вовсе. Критика и давление движутся лишь сверху вниз. Критика снизу-вверх может иметь последствиями насилие, аресты. Драматизм в такой критике силен. Ее могли бы сопровождать трагические симфонии Бетховена.
Игорь Железов только и делает, что находит изъяны в новых домах. Через слово называет их «спичечными коробками». По его мнению, «долгостройки» только подчеркивают упадок страны. Порой он стоит на углу, уткнувшись носом в стену, и смотрит, сощурив глаз. Смотрит, прямо ли построено здание. Он собирается выступить в печати со статьей о кривых зданиях.
«У долговязого весь ум в пятках», — смеются, глядя на него, прохожие.
Да, Игорь Железов обнаружил много таких домов в Москве. Он никоим образом не ставит свои «открытия» ниже открытий научно-исследовательских институтов. Примененные на практике, они могут дать конкретные положительные результаты. Отвлеченные, абстрактные вещи — не для него. У него и план есть: если хватит жизни, разобраться со всей Москвой. Нельзя смиряться с кривизной этого города! Не шутка ведь — в Москве родился Александр Пушкин! Я обязан, говорит он, выявить ложь высокомерных архитекторов. Найти закавыку в исторических зданиях, оповестить весь мир о фальши в архитектуре.
Однажды со складным метром в руках он измерял длину и ширину непропорционального здания, делая пометки в блокноте. То и дело задирал голову и смотрел вверх. Жаль, высоту не измеришь. Высота — прерогатива небес. Высота подвластна лишь государству. Государство могло бы подставить ему подножку в лице министерства строительства. Ладно, что уж тут поделаешь, изъяны на высоте все равно не особенно влияют на человеческую жизнь.
— Делать тебе нечего, кроме как здания измерять?
— А что, тебе больше делать нечего, кроме как спрашивать об этом?
Вот его диалог с местным аксакалом. Не будешь цветы и деревья поливать — сад высохнет. «Если дома строятся криво, и Родина загнется», — говорит Игорь.
Как-то в солнечный морозный день он вместе со своим старинным приятелем, врачом, приехавшим из Костромы на курсы повышения квалификации, отправился в музей. Игорь признает свою неопытность и некомпетентность по части музеев. Но первый изъян Пушкинского он уловил еще издали.
— Тень по утрам падает в реку.
— Ну и что? — удивленно взглянул на него друг.
— Музеи должны строиться так, чтобы тени от них не достигали реки.
— Но почему?
— Тень может впитать воду из реки. Картины могут отсыреть.
Друг из Костромы удивленно заморгал глазами.
Остановившись перед музеем Пушкина, Игорь долго рассматривал его слева направо, справа налево, снизу-вверх. Кажется, делал про себя подсчеты. Но ничего пока не сказал и, покачивая головой, стал подниматься по ступенькам. Внутри он был шокирован: стены ослепительны, бьющее с портретов сияние освещает лица. Эх, подойти бы критически к этому сиянию! Привычка не оставляла его в покое, но язык в ход он воздерживался пока пускать. В данный момент этот музей заслуживает критики, потому что убивает в нем критический дух. Ну, погоди. Одним-двумя залами дело не закончится. Надо до конца усвоить эстетику этого места. Его взгляды обязательно должны столкнуться со здешней эстетикой. Музейный классицизм не устоит перед его нигилизмом. Его вкусы — вкусы врача — сформированы вне музейной эстетики. Он довольствуется тем, что есть. Больных в жизни он повидал больше, чем здоровых. Повидал немало мертвецов, хоть и меньше, чем живых. А мертвецы, даже если прежде и были специалистами по эстетике, очень далеки от эстетического мира. Вдобавок, самый святой мертвец уже негигиеничен, и это его состояние усиливается ежеминутно. Именно по этой причине его быстренько закапывают в землю. Уважение и прочее — миф, мертвец фактически культурным образом изгоняется из семьи, общества, превращаясь в мусор.
Читать дальше