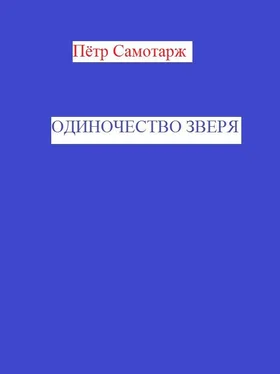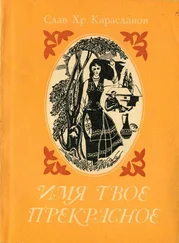Есть ли он, этот голос? Вопрос мучил её уже несколько месяцев. Может ли она сказать о стране, своих согражданах и человечестве в целом хоть что-нибудь, не прочитанное или не услышанное от других? Много ли людей могут похвастаться собственным голосом? Откуда он приходит? Сколько лет или десятилетий нужно читать, чтобы однажды обнаружить в своей голове собственную мысль? И, пока не пришло время, что делать ей? Совсем молчать, или пересказывать иногда найденное другими людьми? Что даёт человеку право голоса? Обращаясь к аудитории, следует взять на себя ответственность за сказанное. Если твой призыв окажется зажигательным, люди пойдут за тобой и погибнут, всё равно — в прямом или фигуральном смысле, перед кем тебе нести ответственность? Они ведь сами пошли, ты не гнал их силой. Но ведь они пошли, потому что поверили тебе.
— Нас вместе с ним однажды арестовали, — гордо поведала подружка.
— Вдвоём? — сухо уточнила Наташа, оскорблённая этим «вместе».
— Нет, конечно. Человек десять. Устроили небольшой пикет перед Думой во время дебатов по закону о борьбе с экстремизмом. Лёнька тогда здорово разозлился, услышал трансляцию выступления Орлова и сразу сорвался с места, как по команде.
— Бросил клич, и ты откликнулась?
— Нет, просто на ходу крикнул, что вернётся завтра, выхватил из кучи плакат и убежал. Ну, а я за ним. И ещё несколько человек.
— Все присутствовавшие?
— Нет, но большинство. Так испугалась, даже дышать не могла.
— Когда испугалась? При аресте?
— Нет, тогда уже почти веселилась, так прикольно получилось. А вот первый шаг сделать — страшно. Прямо коленки тряслись. Даже трудно сказать, чего именно боялась. Я ведь не раз видела ребят после арестов — помятые, конечно, но вовсе не замученные до полусмерти. Наоборот, гордые и весёлые.
Подружка принялась рассказывать о пикете у входа в Думу, и Наташа слушала её со смешанным чувством. Она не хотела за решётку, даже на несколько часов, но стоять рядом с Худокормовым перед полицейскими рядами — хотела. В отдельные моменты она начинала воспринимать рассказ как повествование очевидца о ней самой. Подружка говорила «я», а Наташа видела себя, сначала с развёрнутым плакатом, потом в омоновском автобусе с зарешёченными окнами.
— Тебя били? — осторожно поинтересовалась она.
— Так, потолкали, пошвыряли, по асфальту потаскали.
— А его? — Наташа испугалась за свой голос, предательски подсевший в момент вопроса, словно Худокормова задержали только что, а не несколько лет назад.
— Его — тоже. Он ведь не террорист какой-нибудь и не боевик, с ОМОНом не дерётся. Говорит — занятие для дубовых голов. Никакой пользы для дела, только уйма материала в руках у власти для доказательства опасности, которую представляет оппозиция для общества.
— Несанкционированный пикет — тоже ведь нарушение закона.
— Это уже проблема закона. У нас есть конституционное право высказывать своё мнение вслух и прилюдно, а не у себя на кухне, среди родных и близких.
— Всё равно, ведь нужен какой-то порядок. Не может любая группа в сотню человек по своему желанию перекрывать улицы. Тогда хаос начнётся.
— Если власть будет соблюдать Конституцию, не будет никаких шествий в защиту конституционных прав граждан.
— Всегда найдутся недовольные чем-нибудь.
— Ты когда-нибудь слышала о разгонах демонстраций в Швейцарии или в Голландии?
— Нет, но в Германии и в Америке — сколько угодно.
— В Америке разгоняют иногда пикеты из десятка человек, а в Германии разве что анархисты под первое мая войну с полицией учиняют. Идеи их не волнуют, их цель — подраться и продемонстрировать свою революционность.
— Вот и ваш пикет из десяти человек разогнали, как в Америке.
— В Америке не бывает пикетов против рассмотрения в Палате представителей законопроектов о запрете думать не так, как хочется правительству. Под экстремизм наши ручные суды ведь могут подвести любое критическое высказывание, какое прикажут. Формулировки расплывчатые, оставляют уйму пространства для творческой фантазии. Лёнька любит говорить: половина текста щедринской «Истории одного города» годится сейчас для злободневных лозунгов, и все они попадают под закон о борьбе с экстремизмом. На что мы потратили сто с лишним лет?
— И ваш пикет мог бы что-нибудь изменить?
— Нет, но хочется иметь чистую совесть. Если у меня будут дети, смогу им рассказать, что в молодости не сидела без дела.
— И про пикет расскажешь?
Читать дальше