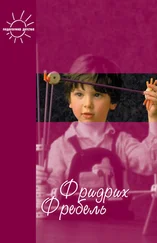— Хорошо было бы, Винцас, и керосину привезти. Не осталось ни капли.
Не отвечает. Только головой кивает. Ну, и за это, так сказать, спасибо.
— А крупы, если достанешь, побольше возьми: и самим варить нечего, и курам надо.
Он поднимает глаза, смотрит на нее, а потом говорит:
— Правильно ты надумала. Теперь и впрямь с нее нельзя глаз спускать.
Вот тебе на! Один о бревне, другой, прости господи, о… Наверняка и о керосине, и о крупе он даже не слышал. В одно ухо вошло — в другое вышло. Воистину святое терпение с таким надо. Вроде птахи в раю порхает: нипочем ему земные заботы. Но нет. Встает, выбирается из-за стола: надумал что-то. И ни слова. К дровам, к колоде тащится, топор берет. Ясно, другого времени не нашел, обязательно в такой день: ты перед ним душу раскрываешь, а он тебе спину, прости господи, показывает.
Мария вздыхает, тоже встает, убирает со стола, все поглядывая в открытое окно — бухает и бухает. Не уставая, как заведенный. Только на минутку перестает, запрокидывает голову к белым тучкам, словно с молитвой, и снова бухает, даже поленья по двору летают, как вспугнутые куры…
* * *
Лежал с закрытыми глазами, но сон не шел. Сотни раз передумал, считал дни и недели, но все подсчеты приводили к единственному выводу: «Не Стасисов, а мой». Произносил эти слова про себя и непроизвольно со вздохом переворачивался на другой бок. Мария, не вытерпев такого ворочанья, упрекнула:
— Чего ты как на муравейнике — ни сам не спишь, ни другим не даешь…
Он не ответил, но больше не ворочался, лежал неподвижно, подавляя вздохи, которые вырывались, просто разрывали грудь. От топорища горят ладони, кончики пальцев словно чужие, ноют мускулы; кажется, только спи, человек, отдыхай, а сон все не берет, хоть ты лопни! «Конечно, не Стасисов. Был бы Стасисов, Мария давно бы знала, давно бы все выплыло. Нет сомнения, что начало всего — на этой злополучной лесной поляне, на этой вересковой постели. Не Стасисов, а мой… Но что с того? Никому не похвастаешься, не скажешь, даже единственным словом не обмолвишься. И твой, и не твой. Разве что усыновить или удочерить. Но об этом думать еще рано, об этом думать вообще не стоит, потому что все еще далеко. Теперь на самом деле главное — не спускать с нее глаз, не оставлять одну… А как поступить, если она двери перед самым носом захлопывает, если сторонится, как прокаженного? Не надо об этом думать. Все уладится как-нибудь. Только не надо загодя думать, что будет через полгода или год. Не думать, не думать…»
Кто-то скребется у окна, он повернул в ту сторону голову и даже дышать перестал: через окно лез в избу Стасис. Не лез, а прямо вплывал в комнату, странно подгребая руками, словно продираясь сквозь густой кустарник, сквозь высокую траву, которая сплетает руки и ноги. Он греб настойчиво, из последних сил, но невидимые руки, цепко ухватившись, тащили его назад в черное отверстие окна. «Помоги», — позвал на помощь. «Становись на ноги», — тихо, чтобы не разбудить Марию, сказал Винцас. Стасис встал и долго водил руками по телу, будто он был облеплен тиной. Потом вздохнул и босиком направился к кровати. «Подвинься». Он подвинулся, но глазами показал на спящую Марию. «За что ты меня?» Он прижал к губам палец, но Стасис, кажется, не понял его и повторил: «За что ты меня, Винцас?» — «Нашел время спрашивать… А может, не я?» — «И ты знаешь, и я знаю…» — «Разве теперь не все равно?» — «Мне — не все равно». — «Какой теперь прок от этой правды?» — «Правду знать никогда не поздно». — «Не следовало тебе так». — «Чего не следовало?» — «С ними связываться не следовало». — «А Агне тебе любить следовало?» — «Тут я не виноват… Против моей воли все сложилось». — «Ты всегда останешься невиноватым». — «Может, и не всегда, но…» — «Я пришел не спорить с тобой, а узнать правду — за что ты меня?» «В такое время ни к чему брат, который скрывается в лесу», — сказал Винцас и повернулся в сторону Марии. Жена спала спокойно, посапывая, словно маленькая, и он с облегчением вздохнул: хорошо, что ничего не слышит, а то пришлось бы и перед ней объясняться. «А как теперь тебе… как там?» — «Не обо мне, Винцас, речь. Я пришел узнать правду». — «Ты теперь как бог: все видишь и все знаешь, так какая правда еще тебе нужна?» — «Вся!» — слишком громко крикнул Стасис и разбудил Марию. Винцаса даже пот прошиб… «Чего вы тут ругаетесь?» — спросила Мария. «Я пришел узнать, за что Винцас со мной так…» — «Ты один пришел, без Агне?» — спросила Мария. «Она на пороге сидит». Винцас глянул в ту сторону и на самом деле увидел Агне. Она, в длинной белой рубашке, сидела, съежившись, на пороге, подогнув ноги, обхватив руками колени. Теперь ни на минуту нельзя спускать с нее глаз… А как быть, если она убегает, словно дикарка, даже в избу не пускает. Странно, что теперь пришла. Надо не выпускать ее. На девять замков закрыть и не выпускать. «Ты спроси о ребенке», — произнесла она. «О каком ребенке?» — «Он знает, о каком… О его ребенке, которого я ношу». Стасис нагнулся, навалился на него, цепкими пальцами схватил за горло, сжимал, душил, а он из последних сил старался вырваться, звал на помощь, но изо рта вырывался только бессильный хрип, никто, конечно, не услышит, никто не прибежит на помощь…
Читать дальше