Поджала маленькие, сердечком, губы Мелентьева. Обида — горькая и незаслуженная — плескалась в ее глазах.
Бакутин сгреб со стола мраморную подставку к авторучке, и казалось, сей миг запустит ее в перекошенное гневом лицо начальника УБР.
Даже Ивась придержал пилочку, которой полировал под столом ногти. «Вот шизик! — со смешанным чувством восхищения и осуждения думал он, глядя на каменно ощетинившегося Гизятуллова. — Себе и людям жизнь укорачивает. Пообещал бы, послал пару машин и полторы калеки, а тем временем с обкомом сговорился».
Эта стройка камнем с неба свалилась на голову Ивася. Черкасов заставил через день выпускать двухполосный специальный листок «Бетонка». Пришлось двух лучших парней отрывать от газеты ради этой дурацкой, никому, кроме Черкасова, не нужной листовки. А в редакции каждый сотрудник воистину незаменим… Эти чертовы фанатики — Черкасовы, Бакутины, Мелентьевы, Фомины — уже заразили своей одержимостью жену. И дочка бубнит о буровых на воздушных подушках. Сумасшедший дом! Спешат. Несутся вскачь. Погоняют друг друга. А ты поспевай за этими полоумными. Иначе — под колеса!.. Теперь помешались на этой бетонке. Каждому члену бюро — свой кусок, опекай и подталкивай. Местное радио с утра до ночи бьет по мозгам: бетонка, бетонка, бетонка! За два дня провели с участием членов бюро тридцать собраний коммунистов об этой треклятой бетонке. Пришлось Ивасю распинаться перед шоферами автотранспортной конторы. И ведь слушали. Аплодировали. И никто не пискнул, когда голосовали, чтоб каждый в нерабочее время сделал не менее ста ходок, вывозя грузы на дорогу. По двенадцать, по четырнадцать часов не выпускают руля, и еще сто ходок в месяц. Свихнулись все, начиная с Черкасова…
Сунул пилочку в карман. Встретился глазами с Гизятулловым и вздрогнул, почуяв близкую катастрофу.
— Больше вы ничего не хотите сказать? — разорвал гнетущую взрывную тишину Черкасов.
— Не буду! — угрюмо буркнул Гизятуллов.
— Тогда… мы… исключим вас… из партии, — тихо, почти шепотом, паузой отделяя слово от слова, выговорил Черкасов. Облизал побелевшие губы, нервно поправил очки на переносице. — Выбирайте. Или завтра вы начнете строить свой участок и наверстаете упущенное, или я ставлю на голосование предложение о вашем исключении из партии.
Это был критический миг, гребень, на котором все должно было сломаться, рухнуть. Они пошли на смертельный таран и с замиранием и страхом все напряглись — болезненно, до крайнего предела.
«Неужели не уступит? Что бы и как потом ни переигралось, такую вмятину на судьбе всю жизнь надо зализывать», — страдальчески морщась, думала Мелентьева, мысленно подталкивая Гизятуллова к смирению.
«Как зарвался, — клокотал Черкасов. — Впереди обрыв, сзади круча. Вывернется — наперед наука. Сломает шею… Не утвердит обком исключение. Начальник УБР. Приехал добровольно. Притащил почти все управление, в партии двадцать лет, хваткий, умный, принципиальный и позарез нужный… Не утвердит. Да и не надо, чтоб утвердил… Но и другого выхода — нет».
Черкасов понимал: на изломе была не только гизятулловская, но и его собственная судьба. Отменив решение об исключении, обком наверняка накажет Черкасова за недопустимое отношение к руководящим кадрам. Возликуют приверженцы неуправляемости, начнут каждый подобный шаг, каждое такое решение горкома ревизировать, кивать на обком. «Придется отсюда уходить…»
Немыслимо долгой, гнетущей становилась пауза. Никто не решался ее прерывать. Гизятуллов внутренне корчился под наведенными на него взглядами. Оглушенный, ослепленный, он утратил ощущение реального, перестал соображать и пришибленно сник.
Черкасов вскинул руку с карандашом, чтоб поставить последнюю точку, — Гизятуллов опередил. Страдальчески кривясь, поднял голову, выговорил еле слышно:
— Хорошо. Сделаю. Обжалую. И на первом же пленуме горкома…
— Это ваше право, Рафкат Шакирьянович, — обессиленно выдохнул Черкасов.
Тарана не произошло.
Гизятуллов уступил, сошел с роковой прямой за миг до столкновенья.
Наступила разрядка.
Только что пережитое требовало выхода.
— Может, перекур? — просительно сказал Бакутин.
— Перекур, — подтвердил Черкасов и первым поднялся…
5
Георгий Павлович Боков был завидным жизнелюбом. Любил побродить по тайге с ружьем и с грибной кошелкой, поваляться у костра на свежих еловых лапах, ожидая, пока сварится уха иль в глиняном кожухе дотомится тетерка, пробежаться на лыжах по залитым солнцем белоствольным перелескам, перемахнуть вплавь быстротечную, широкую реку. Любил дружеское застолье с азартным спором и непременной общей песней. Партийная карьера Бокова оказалась настолько стремительной, что он не успел, а может, не захотел поменять ни друзей, ни привычек и внешне мало переменился: и разговорчив был, и улыбчив — по-прежнему, инакомыслие сносил спокойно, а бывало, и признавал собственную неправоту. С выводами не спешил, скорых и окончательных приговоров не любил.
Читать дальше
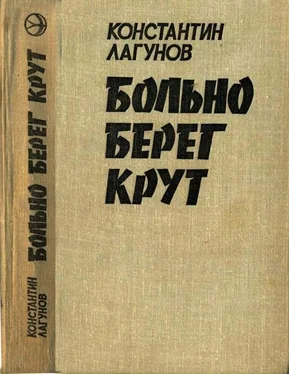








![Константин Лагунов - Красные петухи [Роман]](/books/423980/konstantin-lagunov-krasnye-petuhi-roman-thumb.webp)

