— Энто ты, Вадь, его спужался?
— Угу, — наигранно дрожащим голосом ответствовал кудлатый. — А ты сам глянь. Жж-ж-жуть! Мама! Убери мине отсюда, он мине съест!
Надо бы хлесткой шуткой осадить, но Иван поглупел от ярости, тискал на коленях кулачищи и молчал.
— Жора! Прикрой мине с тылу, — не унимался кудлатый, отменно подражая детскому лепету. — Счас он зачнет с мине омлету делать. Не хочу в омлет. Не хочу! Не хочу. Ма-а-ма!
— Милай! Ково разблажился! Ково рабазлался? — старушечьим тягучим голосом пропела Таня. Горшочек-от под сиденьем. Нашарь ручкой и садись.
Дружный хохот покрыл Танины слова. Кудлатый побагровел и с ходу, не раздумывая, прогнусавил:
— А у мине бумажки нетука…
— Языком, милай, языком, — отрезала Таня, вызвав шквал смеха.
До конца пути кудлатый и Жора больше не задирались. А в Турмагане на выходе с летного поля неожиданно подлетели к приотставшей от мужа Тане. Кудлатый схватил ее за рукав, рванул к себе и тут же выдернул из кармана другую руку с зажатым в ней лезвием безопасной бритвы. Иван перехватил руку кудлатого, сшиб его с ног. Еще миг, и Жора лежал рядом. Хулиганы кинулись наутек. Отбежав, кудлатый повернулся, грозя кулаком, надорванно крикнул:
— Мы еще встретимся, сука! Я т-тебя попишу!..
И сгинули оба в густом ельнике, опоясавшем временный турмаганский аэродром.
1
Нет, неправда, что можно от какой-то точки начать жизнь сначала, отсекая напрочь прожитое. Можно сменить жену, переменить веру, из добренького стать злым, а из подлеца святошей, но все, через что прошел по пути к этому, навсегда останется в тебе, всюду будет с тобой и в самый неподходящий миг кольнет прямо в сердце. Все можно начинать по десять раз, ломать и снова строить, только не собственную жизнь, ибо та начинается без спросу и обрывается без предупреждения. Может, и есть неведомая сила, управляющая судьбами людскими, отмеряющая долготу каждой жизни, так та сила неподвластна человеку. Потому и нет ничего страшней раскаяния. И видишь, и понимаешь, и чувствуешь, а переиначить — не можешь. Вперед пятками не ходят…
Примерно такие мысли высказал Остап Крамор в пропахшую терпким мужским потом и запущенным бельем, прокуренную пустоту полубалка, куда его подселили четвертым. Соседями Крамора по душному купе с единственным оконцем были трое недавно демобилизованных парней, прибывших сюда с комсомольскими путевками. Они служили в одной танковой части, потому называли себя «мехтроицей» и жили на редкость спаянно и весело. За старшего в «мехтроице» был помбур Егор Бабиков — некрупный, но туго скрученный, жилистый, неутомимый парень. Смуглый, горбоносый острослов и задира Аркадий Аслонян монтировал буровые вышки. И только Ким Чистяков не изменил армейской привязанности, не покинул машину, работал бульдозеристом в четвертом СМУ (строительно-монтажном управлении) треста «Турмаганнефтегазстрой». Ким был белобрыс и веснушчат, с выгоревшими ресницами и тоже как будто выгоревшими белесыми глазами. Добродушный и флегматичный, он иногда становился на диво упрямым. Друзья знали: если Ким застопорил — не пытайся его сдвинуть.
К Остапу Крамору все трое отнеслись с оттенком того еле приметного полуиронического снисхождения, с каким ныне зачастую относятся люди физического труда к творческой интеллигенции. Они не третировали художника, но нет-нет да кто-нибудь ненароком подчеркнет свое превосходство, чем сразу зацепит чуткого Остапа, и тот, мигом сникнув, уйдет без объяснений.
В деревянной двухэтажной конторе нефтепромыслового управления был у Остапа Крамора свой крохотный закуток, выделенный Роговым с великой неохотой, под нажимом Бакутина. В том закутке, кроме самодельного, из древесно-стружечной плиты стола и такой же самодельной табуретки — ничего не было. Остап появлялся здесь когда хотел, засиживаясь иногда за полночь. Он малевал надверные таблички, писал лозунги, рисовал плакаты, оформлял стенды, стенгазеты и делал еще массу таких же очень нужных мелочей, получая за это заработную плату инженера по технике безопасности…
Месяц Остап крепился, хотя отравленный алкоголем организм задыхался, изнемогал от жажды. Обессиленный Остап не раз проваливался в пустоту, из которой прежде был единственный выход — запой. Никто не знает, какого нервного перенапряжения, какой физической перегрузки стоили Крамору выходы из предзапойных провалов. И единственным подспорьем ему в поединке с черным недугом была идея картины о Турмагане.
Читать дальше
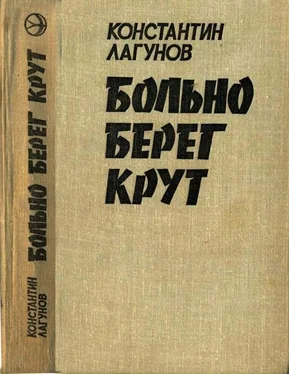







![Константин Лагунов - Красные петухи [Роман]](/books/423980/konstantin-lagunov-krasnye-petuhi-roman-thumb.webp)

