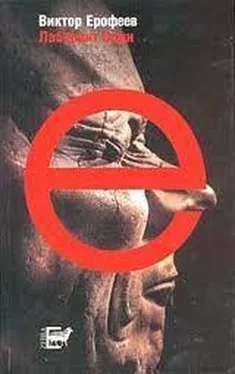В мире, поделенном на «своих» и «чужих», убийство «чужих» — игра и шутка, их не жалко.
«Жан-Соль Партр был мертв, и чай его остывал» —
так повествуется о насильственной смерти философа, в то время как смерть «своего» Шика описана трагически:
«Кровь булькала у него в гортани, голова склонялась все ниже и ниже. Он уже не стискивал живот, а бесцельно взмахнул окровавленными руками, словно пытаясь опереться о воздух, и ничком упал на пол».
Мир «Пены дней» в творчестве Виана оказался уникальным. Поэтика ювенильного романа в последующих произведениях писателя постепенно распадается, герои взрослеют и обременяются заботами, которые в «Пене дней» казались «чужими». На смену играм идет стилистически куда более традиционный роман, оставляющий большое место размышлениям и самоанализу героев. Правда, фантастический элемент полностью не исчезает, но трансформируется, приобретая солидный притчевый характер.
…Мне близок Виан — стилист и стилизатор, создавший в «Пене дней» на основе монтажа различных стилей свой собственный метастиль, отразивший пестроту, разнообразие и в то же время фундаментальную условность всевозможных художественных решений.
1978, 1995 гг.
Путешествие Селина на край ночи
Что такое Селин, как не последний по времени, крупнейший, всамделишный, не буря в стакане дистиллированной воды, скандал во французской литературе?
В западной словесности настала унылая пора «репрессивной толерантности». Когда все позволено, о скандале можно только грезить. Селин — недосягаемый идеал литературного тщеславия. Фигура почти что мифическая.
«Кто не восхищается Селином? — пишет историк новейшей французской литературы Жак Бреннер . — Ни у кого из французских писателей в настоящее время нет более прочной литературной репутации, чем у него».
С мнением Ж.Бреннера, считающего, что только Марсель Пруст способен оспаривать у Селина «первое место» среди французских писателей XX века, соглашаются многие исследователи литературы. Однако они явно не способны прийти к единому или по крайней мере схожему выводу, почему Селин занял такое особое положение.
«С тех пор как критики вновь принялись читать его добрый десяток лет тому назад, — писала в 1984 году исследовательница творчества Селина Мари-Кристин Беллоста , — многие видят в нем самого значительного писателя, изобразившего болезни нашей современной цивилизации. Остается задаться вопросом, что же хорошего мы видим в нем, раз „компрометируем себя“ (как говорил Жан-Луи Бори [20] Известный французский критик.
) обращением к нему. Порожден ли наш интерес — на основании формулы: литература прежде всего! — поразительным соответствием его языка содержанию его книг, его скрипучему смеху? Или же этот интерес вызван тем, что он был очарован злом, которое необходимо понять, чтобы уберечься от него? Или же дело в том, что индивидуальность его голоса мстит нам за рассудочность нас опекающей цивилизации? Или его религиозное и садомазохистское мировоззрение, когда историческое становление видится как неизлечимая болезнь, создает почву для некой системы безответственности, дающей нам премилое оправдание лености мысли? Или же, наконец, все дело в том, что, описав историю как механизм, которым мы не способны управлять, он предоставил литературное алиби тем, кто стыдливо отказывается от осознанно критического взгляда на общество?»
В чем же все-таки загадка Селина? Он несомненно показатель критической ситуации, когда слава повенчана с бесчестием и определенная часть французских читателей испытывает, как пишут авторы исследования «Литература во Франции после 1968 года», «тревожащее пристрастие скорее к предателям, чем к героям». [21] Vercieг В., Lecarme J. La littérature en France depuis 1968.— P., 1982.— P.15.
Литературный путь Луи-Фердинанда Селина (1894–1961) стал яркой парадигмой опасного пути индивидуалистического сознания в XX веке, равнодушного к тому, что лежит вне сферы его интересов, желаний и удовольствий. Селин с удивительной ясностью — сам едва ли подозревая о том, что делает, высветлив социальное зло изнутри, — показал метаморфозу такого сознания в решающий момент исторического выбора, когда мечущееся, анархиствующее «я» в страхе перед уничтожением бросается в сторону расовой ненависти, мизантропии, тоталитаризма. Своей жизнью и своей прозой Селин посягнул на союз морали и эстетики, на принцип, выразившийся в пушкинской оппозиции гения и злодейства.
Читать дальше